|

ПРОЩАНИЕ С ФОТОГРАФИЕЙ
(лекция, прочитанная в ИСИ осенью 2006 года)
Елена ПЕТРОВСКАЯ
 Речь сегодня пойдет о фотографии. Название моего выступления - довольно условное, и мне хотелось в какой-то степени вас им спровоцировать: "Прощание с фотографией". Хотелось с самого начала заинтриговать и по возможности настроить на определенный лад. Речь сегодня пойдет о фотографии. Название моего выступления - довольно условное, и мне хотелось в какой-то степени вас им спровоцировать: "Прощание с фотографией". Хотелось с самого начала заинтриговать и по возможности настроить на определенный лад.
Конечно, необходимо объяснить, почему на ум пришло именно такое слово и почему мы будем говорить о фотографии ретроспективно, во времени прошедшем. Прежде всего, позвольте оговорить статус самого конца. Вы слышали многократно из разных источников, что мы переживаем конец истории, конец философии, конец фотографии, конец постмодернизма - некоторые говорят о пост-постмодернизме, - конец, или смерть, автора и т.п. Все время констатируются различные концы, и мне хотелось бы объяснить, что зачастую имеется в виду под концом того или иного явления в размышлениях о нем. Готова даже привести конкретные примеры, имея в виду интересующий нас общий горизонт фотографии. Первое, что приходит в голову, - это то, что о конце истории писал в свое время Деррида. Когда он говорил о конце истории - об этом вы можете прочитать, в частности, в книге "Призраки Маркса", она недавно вышла в переводе на русский, - то имел в виду, что конец есть такая форма завершенности, которая предполагает возможность нового, имплицитно содержит в себе начало. Это вы найдете еще у Гегеля - мотив сам по себе отнюдь не нов. Тем не менее имейте в виду, что конец - это не обязательно точка, исход, последняя сцена, за которой следуют цветы и аплодисменты, но это то, что может содержать в себе зародыш нового начала. И для Деррида ситуация "после" - конец истории, то, что идет после нее, - связана с событием, синонимична понятию события. Он пишет: да, мы говорим о конце истории, о том, что история себя исчерпала - но исчерпала как понятие. Как, собственно говоря, себя исчерпали и все остальные понятия, которые мы употребляем или которые употребляются в связи с концом: автора, истории и даже философии, выступающей в данном случае тоже неким понятием. Так вот, говоря об истории, имейте в виду, что ее конец - это исчерпанность определенного понятия. Но в этой постисторической ситуации, по мысли Деррида, можно тем не менее мыслить событие. Событие как раз и открывает для нее новый горизонт: оно есть знак того, что все только начинается.
Что именно? Об этом я скажу через секунду, но перед этим обращу ваше внимание на другое - схожее - представление о конце, которое можно обнаружить у Вальтера Беньямина. Еще в 30-е годы Беньямин высказывает мысль о том, что когда некоторая техническая форма - вы знаете, что он писал о фотографии специально, но я думаю, что его размышления носят и более общий характер, - подходит к своему завершению, то есть исчерпывает себя, или становится, как он говорит, устаревшей, тогда на какой-то короткий миг она обнаруживает тот утопический потенциал, который содержался в ней в момент ее возникновения. Это своего рода внезапная вспышка: в момент ухода обнаруживается то, что было в ней в зародыше - то, что эта форма обещала. В момент ухода она обнаруживает себя как обещание. Таково второе представление о конце - об устаревании, - которое следует иметь в виду. Это будет связано с тем, о чем я собираюсь сегодня вам сказать, а именно с устареванием, уходом фотографии.
Фотография очевидным образом уходит, и это можно констатировать на двух уровнях - прежде всего эмпирически. Чуть позже я более подробно рассмотрю исследование Розалинды Краусс, а именно ее статью "Переизобретение средства": мне хотелось бы задержаться на тезисах, которые она в ней высказывает, попытавшись включить их в более широкий контекст. А пока ограничусь заявлением, что именно там Краусс выделяет главные фотографические вехи. Если в 60-е годы происходит небывалое сращивание фотографии и искусства, когда фотография достигает своего пика как его разновидность, то уже в 80-е ситуация решительным образом меняется. Происходит это потому, что так называемые любители получают в свое пользование профессиональную фототехнику - аппараты "Никон", ручные видеокамеры и другие устройства, - то есть бывший непрофессионал неожиданно оказывается вооруженным до зубов, и это влияет на всю ситуацию в целом. Такова эмпирическая констатация. Очевидно, что сейчас цифровые камеры и видео окончательно заполонили наш быт, и это уже не прежняя фотография, если судить о ней по меркам тех же 60-х и 70-х. Но допустимо говорить и о том, что уход фотографии можно проследить теоретически, на чем я собираюсь задержаться. Изменения происходят с самим теоретизированием, осмыслением фотографии, и я хочу вас постепенно к этому подвести.
Вернемся еще раз к тому, что Деррида говорит о конце, - попробую предложить свою интерпретацию. Как уже отмечалось, событие связано с горизонтом нового. Мне думается, что один из способов истолковать событие, как его понимает Деррида - мы удерживаем, что это некоторое новое начало, - это ввести в рассмотрение беньяминовское понятие образа. У Беньямина есть понятие образа, в принципе довольно сложное; по-немецки это будет "Bild". Позволю себе зачитать определение образа, немного сокращая цитату: "...образ, - указывает Беньямин, - это... то, где прошлое сходится с настоящим и образует созвездие". Созвездие - термин, используемый Беньямином, это, можно сказать, понятие в его системе, но об этом позже. Вот как он это объясняет: "Если отношение ?тогда? к ?сейчас? есть отношение чисто темпоральное (непрерывное), то отношение прошлого к настоящему - отношение диалектическое, скачкообразное". Здесь мы вступаем на территорию его особенного понимания истории, а также необычного истолкования марксизма. Под вопрос поставлен линейный образ времени. С одной стороны, Беньямин выстраивает линейный образ времени, говоря об отношении "тогда" к "сейчас": он утверждает, что это чисто темпоральное, непрерывное отношение. Но есть другое отношение, или другое время, которое провозглашается здесь же, и называется оно отношением прошлого к настоящему. Важно понять, что диалектика для Беньямина - это особый способ анализа явлений, она является так называемой бездействующей диалектикой, или диалектикой в бездействии. Для него такая диалектика совпадает с цезурой, или остановкой, в развертывании самого мышления. Это значит, что образ можно прочитать тогда, когда мы выпадаем из исторического времени. Остановка и есть момент выпадения. Когда мы выпадаем из этого времени, мы можем прочитать образ, то есть таким способом постигнуть прошлое в настоящем, когда настоящее угадывает себя в прошлом, распознает себя в нем. Это совершенно особые отношения прошлого и настоящего, которые и образуют то, что Беньямин называет созвездием. Должны сойтись два момента: момент прошлого и момент настоящего. Но условием их схождения - а значит, проявления, проступания образа - как раз и оказывается остановка времени, сопровождаемая остановкой в мысли, одним словом - выпадение.
Дальше идет следующий важный момент. Образ у самого Беньямина - понятие многозначное. Позволю себе объяснить, опять же коротко, как этот образ понимается Агамбеном. Это должно нам помочь - мы подступаемся к чему-то, но не вполне определили параметры нашего объекта. В интерпретации Агамбена образ - это "любая вещь (предмет, произведение искусства, текст, воспоминание или документ)" - видно, насколько широк диапазон явлений, подпадающих под данное понятие, - в которой "момент прошлого и момент настоящего соединяются в некое созвездие". Давайте выделим двойственный статус образа, с самого начала как будто заложенный в этом понятии. С одной стороны, это вещественная данность: это вещь, предмет, произведение или воспоминание - ведь даже воспоминание материально. Иными словами, это некая материальная основа. А с другой стороны, образ - это и особая познавательная ситуация, которая себя обнаруживает благодаря обозначенной вещи. При этом вещь становится условием для возможного искупления - снова термин Беньямина - или спасения прошлого. Через эту вещь мы и можем спасти прошлое, поняв его в моменте сегодняшнего дня. Но для этого должна образоваться констелляция, или созвездие, при условии, повторяю, выпадения из линейного времени, каким обычно и представляется история. Не секрет, что именно таким образом представляет историю наука истории - или так она ее представляла до самых недавних времен.
Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что такой же двойственностью отмечена и фотография. Считайте, что это предварительный подступ к фотографии, к ее определению. С одной стороны, мы можем сказать, что фотография - это некоторое изображение, репрезентация, что это и есть образ в материальном смысле слова: то, что мы видим. Но различные теоретики фотографии, например Барт и Беньямин, указывают, что это не просто конкретное изображение, но также темпоральная структура - структура, в которой отражена, по выражению Барта, новая пространственно-временная категория. Говоря их языком, присутствие всегда уже отсрочено, а мгновение постигается лишь как посмертный шок. Из этого следует, что фотография, по структуре похожая на беньяминовский образ, позволяет запечатлевать событие, если понимать под ним смыслообразующий разрыв.
Итак, мы удерживаем вместе два плана - план репрезентации и план, где фотография выступает в роли познавательного механизма. Когда речь идет о репрезентации (изображении), имеется в виду то, что нам представлено, что явлено нашему взгляду. Но когда мы говорим о том, что фотография подразумевает, что не относится к порядку представимого и к самому изображению, то это уже то, что вчитывается нами в фотографию - здесь Беньямин снова приходит на помощь, - но только не произвольностью интерпретации, а благодаря тому, что критический момент - с его точки зрения, это и будет момент остановки - как раз и открывает "час прочитываемости", или час "познаваемости" (у Беньямина довольно сложный язык, и с ним нужно разбираться отдельно). Если немного упростить эту схему, то он фактически мог бы сказать, что прочитываемость фотографии, открывающаяся в определенный момент, не есть случай в том смысле, что мы привносим что-то от себя в ее интерпретацию, - напротив, это есть необходимость. Необходимость, обусловленная исторически. Но это следует понимать и таким образом, что фотография все время существует как бы в двух планах: мы имеем дело с ее материальной данностью - фотография как объект, - и в то же время фотография помогает ухватывать какие-то вещи, которые не сводятся к изображению. Я думаю, что случай Беньямина напрямую выводит нас в контекст специфически истолкованной истории, и это счастливый поворот, потому что далеко не все теоретики фотографии столь восприимчивы к ее историческому измерению - я имею в виду фотографию не как набор знаков, а скорее тот ее пласт, который можно связать с невидимым. Этот момент мне и хотелось представить вам с самого начала. Необходимо было дать понять, что все не так банально, как нам порою кажется, что фотография - это не просто набор карточек, которые мы рассматриваем: разговор о фотографии всегда предполагает, если хотите, какую-то заднюю мысль. Вопрос в том, что за задняя мысль скрыта в голове у того или иного теоретика.
Теперь вернемся к концу фотографии и посмотрим, что под этим понимает Розалинда Краусс. Для нее конец фотографии - это превращение фотографии в теоретический объект. В этом нет ничего неожиданного, особенно учитывая то, о чем мы с вами говорили выше. А что значит начало фотографии - или ее существование? Фотография довольно долго существует как художественный и исторический объект: как утверждает Краусс, в этом облике она сохраняется до 60-х годов по крайней мере. Что же происходит в 1960-е? В это время не просто имеют место размышления о фотографии, но фотография начинает использоваться самими художниками, чтобы теоретизировать ее собственный конец, чтобы дать понять, что она теряет свою специфику как выразительное средство. Так, она используется концептуальными художниками, но не как фотография в старом, традиционном смысле слова - она используется для того, чтобы поставить под вопрос само понятие искусства. По мысли Краусс, в указанные годы это понятие ею подвешивается. Иначе говоря, как только фотография задается более общими вопросами о том, что такое искусство, каковы его границы, что является его объектом в настоящее время, она мгновенно утрачивает свою специфику как фотография. Но парадокс заключается в том, что в эти же самые годы эта же фотография является максимально признанной в качестве художественного объекта: она достигает кульминации в своем воспризнании художественными институтами, музеями, арт-критикой и т.п. Момент по-настоящему парадоксальный. При этом следует иметь в виду, что она действительно утрачивает свою специфику средства. В английском языке используется слово "medium", и я не хочу передавать его как "медиум" - это перевод неправильный и даже сбивающий с толку. В последнее время у нас повсюду стали использовать однокоренное слово "медиа": "mass media" - "средства массовой информации (коммуникации)". Если грамотно переводить с английского, то "medium" - это "средство выражения" или "язык" того или иного вида искусства. То есть "средство" - самый правильный способ передать слово "medium", потому что "медиум", как вы прекрасно знаете, это тот посредник, через которого вещает потусторонний голос, и в данном случае мы никак не обыгрываем эту ситуацию. Хотя был момент в истории самой фотографии - во второй половине XIX века она только начиналась, и были очень популярны идеи Сведенборга, - когда такая посредническая, или медиумическая, функция фотографии была абсолютна незаменима и занимала первый план. Но мы уже давно не вспоминаем об этом. Тогда же, между прочим, регулярно фотографировали мертвых, и вообще идея корреспонденции миров, видимого и невидимого, была очень в ходу. Конечно, фотография в целом воспринималась иначе: тогда-то она и была медиумом, но были и другие медиумы, вписанные в совершенно отличный общекультурный контекст. А сейчас мы говорим именно о "средстве" - но и о нем перестаем уже говорить: в упомянутые 60-е годы фотография исчерпывает себя как выразительное средство.
Я хочу снова обратить ваше внимание на Беньямина. Есть несколько классиков теории фотографии (говорю это тем, кто, может быть, не сталкивался с сюжетом вплотную), к числу которых относятся в первую очередь Вальтер Беньямин и Ролан Барт. В последнее время все чаще звучит имя Вилема Флюссера, но это отдельная история - причислять его к теоретикам следует с известной оговоркой, хотя им написана специальная книга "Философия фотографии". Так вот, у Беньямина есть две основные работы, в которых так или иначе рассматривается фотография. Первая - это "Краткая история фотографии" 1931 года, а вторая - его знаменитое эссе "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости", написанное в 1936 году, то есть на пять лет позже. В данном случае зазор в пять лет очень важен, потому что в этих сочинениях Беньямин дает совершенно разный образ фотографии, а временная разница между ними ничтожна. Мы не можем полностью охватить сейчас эти сочинения, но неплохо представлять себе, о чем в них говорится. В "Краткой истории фотографии" Беньямин описывает начало фотографии - самые первые дагеротипы, которые делались в первое десятилетие существования нового технического средства. Здесь же он оплакивает то, что связывает с упадком ауры в фотографии. Вы знаете, что понятие ауры идет от Беньямина, и в "Краткой истории фотографии" можно найти одну из нескольких ее характеристик. Если воспроизводить, что это такое, то определение звучит примерно так: уникальное ощущение дали, или одномоментное явление наиболее близкого в предельной отдаленности. Фактически здесь речь идет о некотором преобразовании дистанции. Беньямин приводит пример дымки и гор, которые вырисовываются на фоне этой дымки: такой полуденный пейзаж, когда наблюдатель, разморенный зноем, прилег под деревом, и вдруг в это самое мгновение горная гряда предстает ему во всей своей физической ощутимости - мгновенное явление того, что не может быть близким. В других местах он говорит о сакральном, о ритуале и его трансформации применительно к произведению искусства. В любом случае, это момент невозможной близости, взгляд, возвращаемый нам самими вещами. Не буду сейчас погружаться в это обсуждение, но Беньямин заявляет открыто, что в фотографии наблюдается упадок ауры. Он оплакивает этот момент, отмечая, что фотография начальная, то есть первых десяти лет своего существования, еще сохраняла в себе таковую. По его мнению, именно в этой фотографии каким-то образом хранится и передается человеческая сущность (если понимать под этим определенный средовой эффект), но человеческая сущность совпадает в данном случае с сущностью восходящего класса. Вы понимаете, что восходящим классом в те времена была новейшая буржуазия, и эти два определения соединены здесь воедино. Первые дагеротипы по-прежнему ауратичны, потому что фотографы, которые их делают, - все еще не имеющие специализации любители, и аура создается самой их безыскусностью, вернее, взаимным наложением всех этих разноплановых моментов. Иными словами, Беньямин утверждает, что у ранней фотографии наличествует собственное средство или, говоря по-русски, что она по-прежнему располагает своим особенным языком выражения. "Выразительное средство" здесь и имеется в виду.
Но пять лет спустя в "Произведении искусства" Беньямин как будто полностью меняет перспективу. Он говорит о том, что фотографическое - причина исчезновения ауры уже во всей культуре. Не фотография в узком смысле слова, а все техники воспроизведения (не случайно эссе называется "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости") - техники, маркируемые фотографией, приводят к упадку ауры в пространстве всей культуры. Это существенный поворот - мы видим, как фотография применяется для объяснения чего-то другого. Беньямин не только не отстаивает специфику фотографии как разновидности искусства - фотография больше не имеет некогда присущего ей средства выражения, - но и лишает ее всяких эстетических претензий вообще. Если вы обратитесь к эссе, то сможете в этом убедиться. Это можно объяснить и по-другому. С одной стороны, меняется объект. Что становится объектом изображения в изменившихся условиях? Серийные, постоянно воспроизводимые единицы: все, что попадает в поле действия технической воспроизводимости. Этим, как указывает Беньямин, обеспечивается их повышенная доступность, причем доступность в двух смыслах этого слова. Мона Лиза входит к нам в квартиру (а через некоторое время мы увидим ее уже на пепельницах и т.п.): она становится бесконечно доступной с точки зрения ее присутствия в нашем быту. С другой стороны, обретая большую доступность, становясь по-настоящему подручными, объекты тем самым становятся и более понятными.
Но точно так же трансформация происходит и с субъектом. Это значит, что меняются правила и практики самого восприятия. На языке Беньямина это звучит так: установление "всеобщего равенства вещей", причем имеется в виду такое равенство, когда даже произведение искусства утрачивает свою уникальность. А это как раз и есть то, что очень часто ассоциируют с утратой ауры. Объекты наделяются всеобщим равенством. Или, как говорит Беньямин в другом месте, доступность приводит к тому, что вещи выковыриваются из их скорлуп. Фактически этим перебрасывается мост к пониманию реди-мейда Дюшаном. Вы знаете, что в качестве объекта искусства Дюшан берет предмет ширпотреба. Считаю, что Гараджа, известный переводчик, блестяще перевел слово, которое измучило русский язык своей простой транслитерацией: "реди-мейд" - и вправду "ширпотреб", "предмет ширпотреба". Так вот, Дюшан первым показал, что можно взять любой объект из окружающей нас жизни, например промышленно изготовленную вещь, и, поместив его в определенный контекст, убедиться в том, что именно контекст определяет его содержание. Более того, за этой вещью стоит не авторское усилие, и опознаем мы ее не потому, что ее сделал некий творец: она уже принадлежит порядку воспроизводимости, таких вещей тьма - мы просто наугад извлекаем ее из потока. Если где и остается волевой художественный жест, то на уровне отбора и следующего за ним извлечения. Мы извлекаем такую же вещь, как и миллионы других, помещаем ее в художественный контекст - и она становится произведением искусства. Подчеркну: то, что пишет Беньямин, перекликается с тем, как реди-мейд интерпретирует Дюшан. И это очень интересно, поскольку прежде всего решительным образом меняется представление о том, что такое произведение искусства. Но самое главное, это есть род фотографирования без съемки. Вы как будто рамируете объект, то есть производите все действия, какие производили бы с помощью фотоаппарата: ловите объект в кадр и т.д., но при этом самим аппаратом не пользуетесь. На поток репродуцируемых, бесконечно повторяемых вещей вы нацеливаетесь с помощью невидимого объектива, и из него выхватывается какая-нибудь одна неуникальная вещь. Таким образом, фотография отныне представляется Беньямину уже совсем в ином свете. Имейте в виду этот радикальный переход в его интерпретации фотографии. А для Краусс это примечательно еще и тем, что "теоретической" фотография становится уже тогда, - с нею что-то происходит не в 60-е, а еще в 30-е годы.
А вот в те самые 60-е, о которых мы и начинали разговор, вместо своей специфики выразительного средства фотография, по мнению Краусс, указывает на ситуацию искусства в целом. Речь идет о некотором общем поле, где фотографию используют концептуальные художники, в частности, для документирования акций: как об этом говорилось выше, меняется само представление о том, что такое искусство и что, соответственно, является его предметом. В эти годы фотография становится средством деконструкции самой художественной практики, как говорит об этом Краусс, в остальном не злоупотребляя терминологией Жака Деррида. А именно: фотография показывает, от чего ушла художественная практика, как она реорганизовала себя изнутри, что поставлено сейчас на карту и что вообще может быть подведено под понятие произведения искусства, если таковое сохраняется. Примеры, ею приводимые, связаны с именами Марты Рослер, Алана Секулы и других художников, которые, с одной стороны, обращались к эффекту документальности, заключенному в фотографии, а с другой - использовали ее любительские характеристики. Ведь фотография может сводить, по выражению Краусс, к нулевому уровню стиля: любительская фотография и есть открытый взгляд на мир, который как будто ничем не опосредован - во всяком случае, какой-либо эстетикой. Кстати говоря, группа "Коллективные действия" - Монастырский и сотоварищи - активно пользовалась фотографической документацией. Задайтесь на досуге вопросом о том, какую роль играет фотография в концептуальном искусстве. Действительно, что она в нем делает? Понятно, что документирует акции, но никакой художественной ценности самой по себе фотография здесь не демонстрирует, выступая элементарным регистратором событий. На нее не обращаешь ни малейшего внимания - просто хочешь увидеть то, что имело место.
Этап, переживаемый нами сегодня, - это, по определению Краусс, этап переизобретения средства. А происходит это тогда, когда фотография устаревает, - мы не забыли Беньямина. Но именно благодаря тому, что фотография уходит, и открывается то, что она несла в себе как обещание. Что это такое? Чуть позже я приведу пример, поясняющий сказанное, а сейчас предлагаю вдуматься в то, что Краусс понимает под средством: средство есть набор конвенций, производных от материальных условий некоторой технической основы, или суппорта, и позволяющих выстроить особую форму экспрессивности. Итак, набор конвенций, из которых выстраивается определенная форма художественного выражения. Говоря коротко, сегодня речь идет о том, чтобы обновить конвенцию, создать новую конвенцию. Сейчас мы попытаемся понять, что это за конвенции и каким способом они возникают. Я буду двигаться в русле того, что излагает Краусс, ссылаясь на ирландца Джеймса Коулмена. Вы можете потом посмотреть работы этого художника по интернету. Не думаю, что здесь он хорошо известен, не знаю даже, в какой степени он популярен на Западе. Обычно своими текстами Краусс поднимала репутацию друзьям-художникам. Похоже, однако, что в любом случае это художник интересный. Краусс полагает, что Коулмену удается обнажить некий фотографический потенциал.
У него можно найти разные серии работ. Например, он делает фотографии, которые затем проецирует с помощью слайд-проектора. Это пограничное использование изображения в том смысле, что хотя сама фотография, конечно, застылая и неподвижная, но здесь нащупывается грань между застылостью изображения и последующим движением картинок в проекторе. Это, конечно, не фильм, а именно показ отдельных слайдов. В этой связи не могу не упомянуть об одном своем зрительском опыте. Дело в том, что в свое время был восстановлен "Бежин луг" Эйзенштейна: от фильма почти ничего не осталось. Пленку смыли, кажется, по цензурным соображениям (история довольно драматичная), но остались если не раскадровки, то отдельные кадры этого фильма. Кто-то из почитателей Эйзенштейна их позднее и склеил. Когда показывают "Бежин луг" - фильма никакого нет, наблюдаешь то, что фактически описано у Краусс, и надо сказать, что это производит сильное впечатление. Так же делает свое кино и Крис Маркер. Взять хотя бы "La jetee". Говорят, фильм блистательный (к сожалению, довольствуюсь чужими впечатлениями), и выстроен он как набор остановленных кадров, а проще говоря - как набор фотографий. У Маркера, однако, прослеживается сложный нарратив, подводящий к кульминационному моменту, из которого, как выясняется, и ведется рассказ, а именно к моменту смерти. Говоря точнее, умирающий человек переживает вспышки памяти, и они, выстраиваясь в определенный нарратив, в конце концов и кульминируют в остановленный момент его смерти, который невозможно передать иначе как с помощью подборки фотографий. Все эти ассоциации помогают нам понять, в каком ключе работает Коулмен. А он использует шумные проекторы, автоматически переключающие слайды, и этот шум тоже задействован в его проекте. Обычно на стену проецируются двойные ряды кадров. Так он работает с фотографией.
Здесь я остановлюсь на секунду, чтобы сказать: это не так наивно, как может показаться кому-то. В свое время Ролан Барт попытался ответить на вопрос, в чем сущность фильмического. Люди часто признаются в том, что заворожены кинематографом. Но какова природа фильма? Вопрос, понятное дело, всех увлекает. И Барт отвечает на него самым неожиданным, парадоксальным образом. Он говорит: сущность кино - не в движении. Сущность кино, продолжает он, в остановленном кадре. Обратимся к самому первоисточнику. У Барта есть превосходная статья под названием "Открытый смысл". Статья очень известная (у него не так много работ, специально посвященных фотографии или кино), и в ней он анализирует фотограммы фильмов Эйзенштейна. Что возвращает нас к "Бежину лугу", но только отчасти, потому что в основном там фигурирует "Иван Грозный". Я хочу подчеркнуть, что в этой статье Барт высказывает весьма радикальное предположение: сущность кино, заявляет он, надлежит искать в остановленном кадре. Он задерживает свое внимание на отдельных кадрах из фильмов "Броненосец "Потемкин" и "Иван Грозный" - собственно, один Эйзенштейн и анализируется им. Это очень необычно - мало кто говорит о кино в категориях остановленных кадров. Но Барт не просто призывает искать фильмическое там. Мы сталкиваемся с довольно сложной конструкцией, немного напоминающей то, о чем говорилось вначале: вспомним диалектический образ или просто образ Беньямина. Барт отмечает, что в фильме всегда есть некоторый план развертывания самого повествования, - это то, что именуется диегезой или, на языке более простом, киноповествованием. Повествование разворачивается линейно (как история, согласно Беньямину), в определенном направлении: в нем есть уровни смысла, есть рассказываемая история, сюжет и т.д. Это то, что мы как зрители воспринимаем в первую очередь - горизонтально движущийся текст. Но есть текст, который на него постоянно накладывается. Еще Эйзенштейн писал о так называемом вертикальном монтаже. Вторя ему, Барт призывает к вертикальному - поперечному - восприятию фильма: отдельный кадр как раз и рассекает текстуру фильма, давая его поперечный срез.
Что ловит Барт в таких отдельно взятых кадрах? Он видит детали, которые остаются почти невидимыми для глаза. Самый знаменитый пример - это плохо приклеенная бородка Ивана Грозного. Барт говорит: в кадре с изображением царского гнева я вижу только одно - шов, этот элемент плохо подогнанного грима. Но вряд ли мы сможем его увидеть при просмотре фильма. Такое видение требует совершенно особой оптики. И тем не менее именно благодаря тому, что существует палимпсест (по Барту, это наложение, или сосуществование, двух текстов: горизонтального и вертикального), вертикальный текст и обретает смысл в горизонте кинематографической диегезы. Он подрывает нарратив изнутри, подрывает фильм изнутри, он и есть область фильмического. А для Барта это область избыточности, того, что он и называет "тупым, открытым" смыслом. Барту нравится диапазон значений слова "obtus", и он намеревается все их использовать. Например, "тупой", как "тупой угол" в геометрии, - смысл, раскрытый знаковому становлению. Но также и "тупой" в смысле "комик", "клоун" - все то буффонадное, карнавальное, что разрушает непрерывность символического поля знаков, что подтачивает повествование, постоянно его кренит, создавая в нем зоны несовпадений и несоответствий. Это то, что на своем языке Деррида, наверное, назвал бы "differаnce". Что такое "differаnce"? В самом общем виде это гигиена восприятия, мышления, попытка уйти от очевидности и понять, что микроскопические зазоры есть и там: в самом наличном есть то, что ускользает от наличия. Как говорит Деррида, логика не-живого (через дефис), не мертвого, а не-живого, того, что не объясняется и не исчерпывается представлением - в буквальном смысле слова - или наличием, присутствием. Некий зов грядущего, то самое событие, с которого наш разговор и начинался: то, что нельзя предугадать. Для Деррида существует разница между "l'avenir" и "le futur" - "грядущим" и "будущим". То, о чем мы говорим и что принадлежит порядку событийности, - это грядущее, и оно не явно здесь, сегодня, с нами. Грядущее размывает целостность того, что мы привыкли считать состоявшимся, замкнутым в себе, данным раз и навсегда. Оно подтачивает символическое единство, единство очевидности, в чем мы, как правило, не сомневаемся.
Как бы то ни было, Коулмен работает с изображениями, как будто принимая в расчет размышления Барта или, по крайней мере, его определение кинематографа. Что здесь важно и что подводит нас к средству все ближе и ближе? (Я помню, что мы по-прежнему рассматриваем средство.) И связанный с этим вопрос: что выделяет Краусс в работах Коулмена по части их специфики? На фотографиях Коулмен изображает, в частности, людей, которые, выйдя на театральные подмостки, стоят на фоне занавеса в каких-то нарочито неподвижных позах - выглядит это так, как будто их вызвали на бис. Так люди и стоят в этих странных позах, и никакого действия не происходит. Мы имеем дело с фотографиями - кино здесь нет; правда, не будем забывать о том, что кино определять не так легко: это нельзя делать только через нарратив, но следует иметь в виду одновременно и другие вещи. Что же есть? Когда Краусс задается вопросом, что же такое делает Коулмен, чего не делают другие и что как раз и позволяет задуматься о новой конвенции или о новом средстве, то она дает следующий ответ: здесь есть то, что можно обозначить как "double face-out". Это выражение трудно перевести на русский язык. Алексей Гараджа перевел его словами "двойная стойка".
Что позволяет себе кино и чего не может позволить себе ни фотография, ни комикс? Между прочим, самые близкие к Коулмену по жанру вещи - это комикс и фотороман, низкие виды искусства. Так же определяет их и Барт в своем "Открытом смысле": он прямо пишет о низких искусствах. Но именно в такого рода искусствах, замечает он, содержится колоссальный потенциал для теоретизирования. Итак, что наблюдается в кино? Если мы видим в кино диалог, то камера последовательно занимает положение то одного героя, то другого. При этом мы покидаем свою внешнюю позицию по отношению к происходящему и становимся на точку зрения камеры: под определенным углом зрения мы видим попеременно то одного героя, то другого. Тем самым мы вовлекаемся в очень энергичное движение, чему способствует развертывание кинематографического повествования. Однако в случае комикса и фоторомана камеры нет. Невозможно все время последовательно показывать, как посмотрел один, как, на его взгляд, ответил взглядом другой, - это бесконечно замедляло бы развертывание сюжета в пространстве застылого комикса. Что делает комикс или фотороман? Он объединяет эти две позиции в одном изображении. Тот, кто провоцирует реакцию, и тот, кто ее демонстрирует, оказываются вместе - они показаны находящимися в рамках одного и того же изображения, но показаны очень интересным образом. Как читатель комикса, ты понимаешь, что там что-то происходит и что герои взаимодействуют между собой, но при этом они смотрят в разные стороны, у них всегда не совпадает взгляд. Это экономия самого средства - комикса, которое не может позволить себе показывать, как герои встречаются глазами: потребовался бы неоправданно долгий монтаж. Иными словами, все время видишь героев расположенными таким образом, что они имеют отношение друг к другу, и ты считываешь эту взаимосвязь, но никогда не видишь, чтобы они встречались взглядом. Это и есть то, что Краусс определяет как "двойную стойку".
Все это, считает Краусс, подводит нас к осознанию того, что в данном случае Коулмен использует фотографию отнюдь не традиционным образом. В экспериментах Коулмена фотография окончательно теряет свою специфику выразительного языка, хотя это произошло в основном еще в 60-е годы. Теперь же фотография не просто утрачивает свою специфику, но служит изобретению другого средства, фактически средство это порождает. Такое выразительное средство является, по мысли Краусс, синтетическим. Слово это мое - она его не использует. Зато использует более точное слово, заимствованное у Беньямина: средство, говорит она, становится множественным. В самом деле, вспомните о музах. Музы суть разные лики искусства. Само по себе искусство сегодня множественно. Оно уже не воплощает единую концепцию искусства с большой буквы, а есть, напротив, новое средство, которое объединяет в себе, но и дробится, распадается на множество самых разных искусств. Это как бы внутри себя множественное средство выражения. И именно эту изменившуюся ситуацию, по мысли Краусс, обнаруживает сегодня фотография - та, что потеряла свою специфику, но инкорпорировала другие элементы (комикс, фотороман), при том, что сама перестает быть фотографией. Отмечу, что об этом пишут разные авторы. Множественность искусств - это предмет размышлений Нанси. У него есть увлекательная книга "Музы", к которой вас и отсылаю.
В развитие одного из тезисов могу сказать, что как объект теории фотография функционирует давно и успешно. Я уже говорила о том, что есть разные теоретики фотографии. Барт в первую очередь. Он написал книгу под названием "Camera lucida". Она вышла в свет в 80-м году и с тех пор регулярно переиздается: в Америке, например, она выдержала 24 переиздания, а это о чем-то говорит. Это, конечно, базовая книга по теории фотографии: с ней все время пытаются совладать - полемизируют и т.д., - но она остается в каком-то смысле непревзойденным шедевром. Можно сказать, что в отличие от только что упоминавшегося Деррида Барт выстраивает отдельную теорию фотографии. Но уже Барт - не будем забывать, какие это годы, а именно конец 70-х, - пишет о фотографии в терминах невозможности. С одной стороны, он говорит о том, что это "невозможная наука уникального". Есть у него такая формулировка. Если говорить очень коротко, сводя все к одной броской фразе, то для него это проблема сингулярного. Чем удержать сингулярное? Какими средствами оно передается? Ведь о нем нельзя сказать, и философия бьется над тем, чтобы найти какой-то способ сообщить о сингулярном. И для Барта фотография фактически становится таким сообщением. Если у нее есть какое-то сообщение - не будем пользоваться его семиологическим языком, а он говорит о том, что это "незакодированное" в своей основе сообщение, - скажем лучше, что это сообщение сингулярности, или сообщение о сингулярном.
Но на более простом уровне он говорит также о том, что фотография, которую он описывает в этой книге, уже не существует. Барт понимает, что категории, вводимые им применительно к фотографии, и главным образом punctum - одна из этих двух категорий, - в каком-то смысле устарели. Фотографии как punctum'а уже не существует: это некоторое архаическое образование. Подчеркну: Барт это сознавал уже тогда. Вы не найдете ее в обществе, утверждает он, потому что общество делает все, чтобы этот самый punctum преобразовать в набор закрепившихся кодов, а для него это именно коды, то есть языки, которые плодятся в культуре и на которые мы постоянно переводим все наши восприятия и впечатления. Мы не перестаем осуществлять символическую деятельность перевода - культура так устроена, чтобы переводить, - и никакая боль или рана (ведь что такое punctum - это рана, боль, чувствительный укол) не сохраняется в своей чистоте или, скорее, интенсивности. Все устроено так, чтобы эту боль вытеснить, забыть, на то же направлена и собственно работа траура. Однако Барт, которому все это прекрасно известно, выстраивает свою книгу против работы траура, против функционирования систем культуры или, уже, символических систем. Он хочет во что бы то ни стало искупить punctum, а punctum и есть сингулярность.
Об этом по-своему - очень тонко - рассуждает Деррида, который, как я уже отмечала, специально не писал о фотографии, но у него есть статья под названием "Смерти Ролана Барта". Это непростое сочинение, по сути дела некролог: он вспоминает Барта, делая это с типичным для него изяществом. Деррида располагает Барта в удивительном диапазоне от его первого сочинения, "Нулевая степень письма", до самого последнего, а последним сочинением Барта как раз и была его книга о фотографии. Деррида вспоминает - вспоминает свои образы Барта. Когда он пишет о книге "Camera lucida", он характерным образом заостряет или ставит заново проблему метонимии. У Барта слово "метонимия" не раз проглядывает в книге - с разных сторон он исследует и оговаривает punctum, пытаясь ответить на вопрос, как мы можем говорить о punctum'е, об этой самой сингулярности. Он совершает сложную аналитическую процедуру, начиная с детали, заметной в изображении, и постепенно переходя на уровень того, что в принципе неизобразимо: Барт пишет о punctum'е как о времени, ибо punctum это и есть время фотографии. "Ca a ete" - так это звучит по-французски ("Оно там было" - в переводе М.Рыклина). Это время того, что мы видим, но видим всегда уже в прошлом. Формулировка как будто простая. Но именно это и интересует Деррида: момент настоящего, в котором всегда отпечатано некое отсутствие. Настоящее, схватываемое через отсутствие, отсутствие в самом настоящем - или, если угодно, нехватка. Это и есть специфическое время фотографии, которое, как считает Барт, и отделяет ее от всех других известных нам изображений - создаваемая ею особая пространственно-временная категория. На пути к определению punctum'а Барт и вводит в игру понятие метонимии. Вы знаете, что это часть вместо целого, согласно расхожему определению. Барт же перетолковывает метонимию в том смысле, что punctum - деталь, чувствительный укол, то, что нас с вами цепляет в фотографии, - имеет некоторую силу расширения. Например, вы увидели что-то, а потом забываете об этом - уходите, занимаетесь чем-то посторонним, - но мысленно все время возвращаетесь к нему: это то, что вас преследует. Призраки, если вспомнить Деррида: то, что постоянно к вам наведывается. Барт, однако, не употребляет слово "призрак". Он пишет о "спектральном" характере фотографии, то есть о ее призрачности, но не в том смысле, в каком эту тему в целом развивает Деррида. А Деррида как раз и останавливает свое внимание на метонимии, она становится центром его интереса. Не забывайте: мы все время обсуждаем сингулярное. Вопрос в том, как можно передать боль - или любовь.
Я уже упоминала, что был такой теоретик фотографии, как Флюссер. Он принадлежит другому историко-культурному контексту, но его размышления о коммуникации вполне продуктивны. Флюссера интересовали различные каналы информационного распространения. У нас о нем очень мало сочинений, да и сам он практически - а то и вовсе - не переведен на русский язык. Однако в данном случае мне хотелось бы подчеркнуть одну-единственную вещь: каждый раз, когда начинается разговор о фотографии, когда фотография становится объектом теоретизирования, она мгновенно ускользает - как равное себе изображение - и уступает место разнообразным спекуляциям. Это признали все. Для Деррида, например, открывается область так называемой призракографии. Чтобы продлить серию примеров, расскажу напоследок о некоем фильме. Была одна актриса, рано умершая, по имени Паскаль Ожье. Она снялась у Ромера и этим прославилась, вернее, после выхода фильма только начала обретать популярность. После этого Ожье снялась вместе с Деррида, тогда еще тоже довольно молодым, в картине под названием "Ghost Dance". Это фильм 83-го года, в русском переводе - "Танец духов". Фильм по всем критериям ранний; я видела оттуда только те кадры, которые воспроизведены в одной из книг Деррида. По сценарию Деррида рассуждает о призраках - вы можете почитать "Призраки Маркса", дабы как-то прояснить ситуацию, - так вот, ему предстояло теоретизировать о призраках, а Паскаль должна была в конце сказать только одну фразу: "Да-да, теперь я верю в призраков". Так оно и получилось: сцена снималась в каком-то кафе, Деррида долго-долго говорил, и Паскаль его слушала - молодая красивая женщина с тонкими чертами лица. И вот Деррида завершает свою тираду, и актриса произносит: "Да-да, теперь я верю в призраков". А потом, рассказывает Деррида, спустя какое-то время он уехал в Америку и там смотрел этот фильм со своими студентами. Паскаль уже не было в живых. Теперь нет в живых и Деррида... Тогда, в Америке, он пытался объяснить студентам тот самый момент, когда Паскаль произносит фразу: "Теперь я верю в призраков". Деррида обсуждает статус этого "теперь" - к какому времени относится слово "теперь". Он хочет сказать: мы смотрим фильм затаив дыхание не потому, что Паскаль умерла, - призраки населяют наше настоящее. И "теперь" никогда себе не равно, в нем всегда есть разрыв, расщеп, оно всегда уже населено призраками. Или, как он объясняет другими словами: траур начинается не после смерти, а намного раньше, до нее. Это извечное неравенство "теперь" самому себе. На самом деле можно говорить об особом образе времени, который в целом вырисовывается у Деррида.
Однако будем откровенны: Деррида не так интересуется фотографией, как можно было бы предположить. И это несмотря на то, что в работе, где он вспоминает фильм с участием французской актрисы, он вспоминает также Барта и его книгу "Camera lucida". И хотя он не говорит о сингулярности, для него она становится этической проблемой, проблемой абсолютной инаковости другого, который несет с собой свой собственный мир. Причем не важно, жив этот человек или нет, - мир этот никуда не пропадает. И для Деррида фотография, вернее, эффект реальности, ею создаваемый, - это способ говорить о мире, который несет с собой другой. В этом смысле другой оказывается родом этического императива: ты должен принять, узнать этого другого, хотя не всегда ты можешь встретиться с ним взглядом. Деррида рассуждает об этом, обращаясь к языку шекспировского "Гамлета", откуда он выбирает один эпизод и называет его эффектом забрала. Вы помните, что в начале пьесы приходит тень отца Гамлета. Гамлет взволнован ее появлением; приближаясь к стражникам, он спрашивает, было ли у тени поднято забрало. А Деррида говорит: не важно, было поднято забрало или нет. Самое главное, что мы никогда не видим взгляда другого. Для него это просто знак того, что другой становится императивом, что смотрит на нас именно он - в данном случае это делает тень. Вспомним также грядущее, событие: то, что на нас смотрит, но мы никогда этого не видим. Это как заповедь - определенная этика, которую несет с собой другой с большой буквы или другое. А оно для Деррида и есть то самое не-живое, о котором я упоминала: то, что не относится к порядку наличия, присутствия и т.п. Не пойму, как мы уклонились в эту сторону: здесь много сюжетов, которые требуют самостоятельного рассмотрения.
При том, что многое осталось в стороне, фотография подвела нас к очень интересным заключениям. Множественность суппорта, или множественность средств выражения, - вот первое и главное, к чему мы пришли, рассмотрев различные примеры. Можно также говорить о том, что сегодня в фотографию вчитывается - если использовать термин Беньямина - не только множественность искусств, но и множественность самого фотографического сообщения. Оно множественно потому, что есть способ, как я полагаю, спасти историю для фотографии. Барт, например, дает замечательную интерпретацию фотографии, но в ней нет места историческому времени, поскольку он спасает "мою" историю. Понятно, что он отстаивает индивидуальный аффект перед лицом истории, которая стирает всякий след любви вообще, поэтому история и становится для него враждебной стихией. А он хочет сохранить индивидуальную любовь, переживание, аффект, сингулярность того, кто это переживание вызывает: сингулярность другого. В результате история ретируется. Мне же представляется - оставляю это как повод для дальнейших размышлений, - что сегодня есть возможность говорить об истории применительно к фотографии, об аффекте во множественном числе. Имеется в виду, что не я созерцаю фотографию - исходный принцип прежнего анализа, - но существует целая общность, которая узнает себя в ней именно в качестве общности. Думаю, что зритель сегодняшней фотографии - это не индивидуальный зритель, а некое сообщество, переживающее остаточный или, вернее, ослабленный аффект перед лицом подобной фотографии. Иными словами, говоря о фотографии сегодня, есть способ теоретизировать историческое время и коллективную в своей основе аффективность.
2006 © Елена Петровская
Перепечатывается из "Русского Журнала" с разрешения автора.
Фото в заголовке: "A Nanny", 1971 © Richard Kalvar (MAGNUM photos)
Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо автору >>>
|
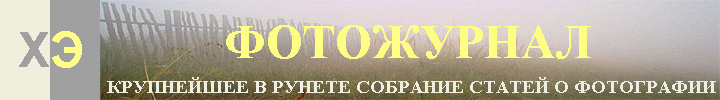

 Речь сегодня пойдет о фотографии. Название моего выступления - довольно условное, и мне хотелось в какой-то степени вас им спровоцировать: "Прощание с фотографией". Хотелось с самого начала заинтриговать и по возможности настроить на определенный лад.
Речь сегодня пойдет о фотографии. Название моего выступления - довольно условное, и мне хотелось в какой-то степени вас им спровоцировать: "Прощание с фотографией". Хотелось с самого начала заинтриговать и по возможности настроить на определенный лад.