|

"Кризис среднего возраста" © Андрей Чернышёв, 2006
Mukerji Ch., Schudson M.
Rethinking Popular Culture
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОП-КУЛЬТУРУ
Чандра МУКЕРДЖИ,
Майкл ШАДСОН
Перевод Александра ЗАХАРОВА
Предисловие переводчика
Новый взгляд на поп-культуру
Исторические исследования поп-культуры
Антропологические подходы к поп-культуре
Производство культуры: социологический подход
Литературная и другие формы культурной критики
Предисловие переводчика
 Предлагаемый вниманию читателей текст является введением к антологии «Новый взгляд на поп-культуру» («Rethinking Popular Culture»)1, которая была выпущена в свет издательством Калифорнийского университета в 1990 г. Предлагаемый вниманию читателей текст является введением к антологии «Новый взгляд на поп-культуру» («Rethinking Popular Culture»)1, которая была выпущена в свет издательством Калифорнийского университета в 1990 г.
Авторы-составители, М. Шадсон и Ч. Мукерджи2, по-видимому, первоначально ставили перед собой скромные педагогические задачи: сориентировать студентов и начинающих исследователей в новой междисциплинарной области знаний, которую в США принято называть «популярная», или «народная» культура («popular culture»). Этим объясняется кажущаяся незавершенность текста: он как бы обрывается на полуслове; замечания и выводы общего характера, которые напрашиваются в процессе чтения, словно повисают в воздухе. Очевидно, авторам хотелось быстрее непосредственно «погрузить» читателей в самую гущу фактологического, дискуссионного материала, имея в виду последующие обсуждения его в аудитории. Однако по прошествии 10 лет после опубликования этой работы становится ясно, что ее результаты далеко превзошли первоначальные намерения авторов. Без ссылок на эту книгу не обходится ныне ни одна серьезная научная монография, ни одна новая учебная программа. Блестящий подбор материала и — в еще большей степени — мастерски выполненное введение сделали эту книгу очень популярной.
Написанный «на одном дыхании», концептуально острый и полемический текст, по нашему мнению, должен вызвать интерес у российских читателей. Интерес вполне объяснимый, ибо в отечественной литературе работ с таким широким «заходом» на проблему пока еще не было. Увлечение некоторыми новейшими (прежде всего, техническими, информационными, коммерческими) аспектами массовой культуры на время как бы заслонило от исследователей тот основополагающий факт, на который очень последовательно и даже с избытком темперамента указывают М. Шадсон и Ч. Мукерджи. Авторы настаивают на том, что современная массовая культура (включая рекламу, телевидение, прессу, шоу-бизнес, бульварные романы, киносериалы и пр.) не должна противопоставляться «высокой» профессиональной, а также аутентично народной, фольклорной культуре, ибо они соприкасаются и взаимодействуют в едином социально-знаковом пространстве. Следует заметить, что более точным наименованием для этого коммуникативного пространства на русском, а также на немецком языке, на наш взгляд, является не термин «народная культура» (буквальный перевод выражения, употребляемого авторами данного текста) — что больше соответствует англоязычной традиции, — а «повседневная культура», или «культура повседневности»3. Однако в предлагаемом ниже русском тексте в качестве перевода этого английского выражения используется более привычная для отечественной теоретической литературы непосредственная калька с него — поп-культура. Впрочем, дело не в самих терминах, а в новых принципах подхода к изучению обширного класса культурных явлений, когда упрощенное плоскостное видение иерархии «высоких» и «низких» жанров сменяется более дифференцированной, многомерной картиной реальности; когда ясно понимается, что противоположности «верха» и «низа» в культуре не абсолютны, а исторически обусловлены, и главное внимание обращается на поиск генетических и интертекстуальных связей внешне разнородных форм, на обнаружение скрывающейся за культурными «одеждами» базовой социальной и политической стратификации.
Авторы всемерно подчеркивают, что корень проблем массовой культуры находится не в эстетике (различиях «хорошего» и «дурного» вкуса!), а, прежде всего, в антропологии и социологии. Именно то, что авторам удалось убедительно показать преимущества такого подхода, полностью исключающего высокомерно-пренебрежительное отношение к явлениям «массовой», или популярной, культуры, по нашему убеждению, является главной причиной заслуженного успеха М. Шадсона и Ч. Мукерджи как исследователей и критиков современной культуры. Этим же путем сегодня идут многие их соотечественники, а также французские и британские коллеги, например, П. Бурдье, ученые Бирмингемской социологической школы и др. Правильная оценка данного подхода российским научным сообществом, теми, кто занимается проблемами массовой культуры, — как в теоретическом, так и в практическом плане, — могла бы сыграть ключевую методологическую роль в углублении анализа разнообразных элементов культуры — как общественных, так и личностных, как простых (обыденных, типовых), так и более сложных, уникальных.
А. В. Захаров,
канд.филос.наук
Новый взгляд на поп-культуру
Нынешнее поколение ученых является свидетелем быстрого развития исследований поп-культуры. Начавшись в русле академической науки, они превратились в широкую интеллектуальную реку, в которую впадают потоки из различных дисциплин. Антропологи, историки, социологи и литературоведы бросили вызов основным положениям в специальных областях знания, привлекая внимание к поп-культуре в характерных для нее формах.
Это интеллектуальное движение, направленность которого была обусловлена общим культурным подъемом 60-х годов, привело за последние двадцать лет к пересмотру представлений о границах научных дисциплин и к формированию отличающихся неоднородным характером полей знания, таких как теория коммуникаций и культурология. Четкий концептуальный водораздел между «высокой» (estimated) и популярной, массовой (representative) культурой был нарушен. Литературная и художественная критика начали осознавать, как много общего имеют высокая и популярная культуры в качестве форм социальной практики. Объективистский, безоценочный подход, применяемый в современных социальных науках, повлиял на способ мышления в гуманитарных исследованиях. Ученые убедились, что традиционное разделение на высокую и популярную культуру отражает в большей степени политические симпатии и притязания элит, чем интеллектуальные или эстетические различия. Они обратили внимание на взаимодействие высокой и популярной культур. Поп-культура стала пониматься как важная сфера политических и социальных конфликтов и как действенное орудие политической мобилизации масс. Интерес к чаяниям и поступкам простых людей становится сильнее интереса к деятельности политических, дипломатических и военных элит, что в особой степени заметно на примере работ по истории. (Может быть, дело пока еще и не зашло так далеко, но некоторые критические замечания об «ослаблении политического аспекта» в исторических трудах свидетельствуют о существовании подобной тенденции.)
Новое понимание задач исследования популярной культуры поставило под вопрос прежние воззрения на массовую культуру как на результат деградации культуры и на элитарную — как на явление прогрессивное. В новых исследованиях признается значимость обычного, ординарного. Повседневное воспринимается как законный объект теоретического интереса, преодолеваются идеологическая предвзятость и индифферентность и ставится ряд серьезных вопросов о роли поп-культуры в политической и социальной жизни.
Новые исследования популярной культуры примечательны как в интеллектуальном плане, так и теми изменениями, что произошли в оценке их статуса по отношению к прочим научным дисциплинам. Исторически сложилось так, что научные академии и университеты считали своей обязанностью пропагандировать высшие культурные достижения человечества. Совершенно очевидно, что повышенное внимание к эксклюзивному несет в себе опасность ограниченного понимания культуры, хотя многие исследователи не перестают гордиться этой «ограниченностью» и поныне. Однако является ли подобная позиция на самом деле ограниченностью или же это, по выражению Геральда Граффа, «просветительский фундаментализм»4? Все же, по большому счету, университеты на Западе склонялись к прославлению достижений западной цивилизации; а в постклассический период — достижений культуры, обязанных своим возникновением господствующим национальным элитам.
Хотя в университетских учебных программах пятидесятилетней или столетней давности не находилось места для изучения поп-культуры, но семена будущих изменений уже тогда были брошены в землю. В XVIII столетии понятие «культура» было синонимом понятия «цивилизация», что должно было свидетельствовать о наличии эволюционного процесса превращения человечества из «дикого» и «варварского» в «цивилизованное». Пиком данного процесса считалась европейская культура XVIII века. Немецкий философ Йоган Готфрид Гердер возражал против подобных воззрений: «Люди всей планеты, скончавшиеся на протяжении веков, вы жили не только для того, чтобы удобрить землю своим прахом и чтобы ваши потомки насладились радостями европейской культуры. Самая мысль о финализме европейской культуры есть ужасное оскорбление величия природы»5. Гердер был первым, кто стал говорить не о «культуре» в единственном числе, а о «культурах». Он начал использовать данный термин в значении, которое станет нормой для антропологии и социологии спустя столетие. Гердер и его ученики вдохновили исследователей на изучение «фольк-культуры», и в начале XIX века, под влиянием вновь возникшего течения романтизма, увлечение фольклором охватило всю Европу. Однако институциональное закрепление данной области знания произошло позднее, вместе с формальной организацией всего корпуса социальных наук. Хотя искусство «примитивных» народов не было еще включено в круг исследований по разделу искусствоведения и литературоведения, тем не менее, оно уже изучалось в антропологии. Его еще не признали в качестве культурного достижения, но все же рассматривали как свидетельство многогранности человеческого рода.
Первоначально антропология и другие социальные науки оказывали незначительное влияние на понимание центральных проблем гуманитарного знания. Даже в самой антропологии существовавший потенциал использовался не полностью. Концентрация внимания на экзотических культурах делала антропологию невосприимчивой к современной ей популярной культуре, так как считалось, что изучение «примитивных», «вульгарных» форм должно вестись в рамках концепции «модернизации». Антропологи не рассматривали такие формы массовой культуры, как фильмы про индейцев или изготовление сувениров для туристов, заслуживающими научного внимания. Если же на них все же падал взгляд исследователя, то они расценивались как симптомы упадка благородных традиций, как некая примесь в бульоне культуры, а не как его полноценный ингредиент. Таким образом, даже весьма демократичная наука антропология удовольствовалась спокойной экологической нишей, испытывая в отношении современной поп-культуры тот же негативизм, что и «высоколобая» художественная, литературная критика. Даже антропология была склонна к превознесению народной (folk) культуры в качестве аутентичной и к осуждению массовой культуры за ее носящие коммерческий характер продукцию и направленность, за ее идеологическую ориентированность и эстетический конформизм.
Процесс легитимации современной поп-культуры как университетского учебного курса и как предмета серьезных научных занятий сегодня еще далек от своего завершения, но все же за последнее время сделан огромный шаг вперед. Как в социальных, так и в гуманитарных дисциплинах отношение к исследованиям поп-культуры существенно изменилось, что, в свою очередь, повлияло на определение предмета этих областей знания. Поскольку было показано, что «аутентичные» народные (folk) традиции зачастую имеют корни в культуре метрополий и властвующих элит, а также что создаваемые профессиональными авторами популярные произведения могут глубоко проникать в повседневную жизнь простых людей, то проведение четкой демаркационной линии между высокой и низкой культурами или противопоставление аутентичной, создаваемой самим народом «народной» (folk) культуры, с одной стороны, и неаутентичной, деградирующей, коммерциализированной «массовой» культуры — с другой, стало делом довольно рискованным.
На фоне подобного переосмысления сложившейся ситуации трудно дать однозначную дефиницию термина «поп-культура». Мы оставляем в стороне множество терминологических дискуссий, приняв тезис о том, что популярная культура охватывает различные верования («beliefs») и формы практической деятельности, а также культурные объекты, используемые широкими слоями населения. Такое понимание включает как народные («folk») верования, формы практической деятельности и различные объекты, имеющие корни в локальных традициях, так и массовую культурную продукцию, создаваемую при участии различных политических и коммерческих центров. Сюда входят как популяризированные образцы элитарной культуры, так и имеющие народное происхождение формы, возведенные в ранг музейной традиции.
Хотя исследования в области популярной культуры породили целый поток междисциплинарной литературы, ученые продолжают говорить друг с другом с позиций специализированного знания и действуют в данной области не как неофиты, а как люди, сформированные определенными склонностями, традициями и теориями, имеющими хождение в соответствующих научных дисциплинах. Ни одна из этих дисциплин не обладала и никогда не будет обладать монополией на изучение поп-культуры; ни одна из этих дисциплин не выработала некоего «наилучшего» подхода к ее исследованию. Все они видят «различные части слона». Более того, каждая из них использует популярную культуру как оружие в своих междисциплинарных «войнах». Процесс легитимации исследований поп-культуры во всех отраслях знания вызвал целый ряд теоретических возражений против основных положений, сложившихся в рамках данных дисциплин. В любой из этих наук исследователи популярной культуры ощущали себя новаторами, маргиналами, бросающими вызов традиционным представлениям о методах и объектах анализа, миссионерами в рамках тех дисциплин, к которым они принадлежали, и вместе с тем носителями новых тем и идей, заимствованных из других дисциплин.
Например, историки французской Школы «Анналов» стремились избавиться от недостатков, содержащихся во многих работах, фокусирующих свое внимание на деятельности образованных слоев общества и на политической истории наций. Вместо этого они выдвинули на передний план изучение жизни простых людей, которые оставили после себя лишь небольшое количество письменных документов. Французские историки предложили использовать смешанные факты (записи дат рождения, похорон, свадеб или расходные книги), а также описания коллективной ритуальной жизни, сделанные образованными очевидцами этих событий. Такая исследовательская техника потребовала от историков изучения некоторых формализованных социальных дисциплин. Однако знакомство с методами социальной статистики и демографии не превратило их в социологов («social scientists»). Историки «Анналов» хотели восстановить утраченное прошлое, понять его влияние на культурные образцы, в том числе и современные, они хотели использовать факты прошлого для осмысления потока происходящих во времени событий и для установления его гуманистической значимости.
Сходным образом историки-марксисты, занимающиеся изучением роли культуры в политической мобилизации угнетенных групп, заимствовали множество социологических понятий и касались ряда теоретических проблем, которые обычно обсуждаются в социальных науках. Они делали это не ради самоценной любви к фактам, а для того, чтобы прозвучали голоса общественных групп, ранее не упоминавшихся в исторической литературе. Копание в архивах стало осознанной формой выражения актуального интереса к политике в исторической науке...
Таким образом, исследователи поп-культуры работают в рамках собственных дисциплин, одновременно борясь с их ограниченностью. Те же из них, кто добился наибольших успехов, внесли изменения в представления о возможностях своей специальности и превратили практикуемый ими тип деятельности в новую (пока еще подвергаемую критике) модель «хорошей» научной работы.
Многие ученые, впавшие в экзальтацию по причине все более глубокого проникновения в новую открывшуюся их взглядам область поп-культуры, не проявляют интереса к четкой демаркации ее границ. В конечном счете, их можно понять: они восстали против традиционного разделения по научным специальностям и во многих случаях смогли установить новые границы специализации в науке. За полученную в результате этого свободу исследований пришлось уплатить известную цену. Заимствования фактов и теорий из родственных дисциплин порой бывают недостаточно мотивированными. Поэтому ученые, занятые конкретными проблемами, не всегда могут дать разумные объяснения того, почему, например, аналитики популярной культуры столь озабочены ролью рабочего класса, изменением функций образования; в какой степени формы народного творчества отражают реальность, а не только мечты и желания народных масс; как изменения в ментальной сфере выражаются в объектах и произведениях поп-культуры. Наблюдая за развитием анализа популярной культуры в исторических науках, антропологии, социологии, литературоведении, люди, впервые знакомящиеся с данным полем исследований, могут яснее увидеть, как интеллектуальные традиции и политические ориентации в отдельно взятых областях знания воздействовали на формирование общей тематики исследований по поп-культуре.
Новые подходы к изучению культуры, на которые мы указали выше, конечно, не являются результатом чисто интеллектуального развития, оторванного от реальных исторических и социальных условий. Все они в целом формировались под влиянием политических изменений, происходивших в последние десятилетия в академической среде. Антиэлитаристские тенденции, придающие импульс исследованиям популярной культуры, являются продуктом радикальной критики системы высшего образования, которой сопровождалась культурная трансформация, происходившая в 1960-е и последовавшие за ними годы. В частности, это сделало академическую публику более восприимчивой к марксизму и более внимательной к положению рабочего класса и других групп, занимающих низшие этажи социальной лестницы. Это выразилось помимо всего прочего и в том, что ряд менее в политическом плане ангажированных теорий и даже такие течения, как структурализм, которые вполне могли бы стать консервативными, приобрели антиэлитарную окраску.
Изучение повседневной жизни средневековых крепостных, женщин, детей и других групп, которых профессиональные историки до этого почти полностью игнорировали, изменило и обогатило представление о социальных проблемах на факультетах ведущих университетов мира. Интерес к поп-культуре был увязан с современными требованиями женщин и этнических меньшинств, добивающихся более справедливого представительства в культурной сфере, в результате чего конвенциализм общепринятой историографии стал казаться все более нелепым. В конечном итоге, включение в исторический анализ свидетельств о жизни простых людей дало новые практические выходы науке: история получила новый предмет и новые мотивы для дальнейших исследований. Исторические факультеты приобрели главенствующую роль в разработке учебных курсов для нетрадиционных колледжей и студенческих контингентов, представляющих этнические меньшинства.
Литературоведы, историки изобразительного и музыкального искусства в большей степени, чем вся остальная академическая публика, являлись приверженцами элитаристских концепций культуры. В самом деле, защита «хороших» вкусов и ценностей во многих отношениях служила оправданием их деятельности. Поэтому они казались самыми косными и скучными из всех тех, с кем приходилось сталкиваться исследователям популярной культуры. И этот факт позволяет объяснить, почему изменения в литературоведении, по сравнению с другими названными областями знания, кажутся наиболее впечатляющими. Традиционные методы изучения литературы вошли в конфликт с «эксцентричными» новыми антиэлитарными течениями, критикующими или же вообще отвергающими самый предмет литературоведческих штудий, а также университетские традиции в этой области. Современная теория литературы, которая фокусирует свое внимание на отношениях между текстами, их создателями и аудиторией — и делает вывод, что текст может быть понят только в аспекте этих отношений, — не стесняется рассматривать любовные романы, научную фантастику, а также мыльные оперы и другие принижаемые ранее литературные формы как полноправные объекты анализа. Революция, произошедшая в теории интерпретации текстов, не могла не поставить вопрос о назначении литературной критики в целом.
Результатом обозначенных выше процессов является изменение атмосферы, царящей в той интеллектуальной среде, которая занята изучением культуры и общества, что не только образует свободное пространство для научных работ по поп-культуре, но и делает эти работы необходимыми.
Исторические исследования поп-культуры
В целом историки уделяли поп-культуре больше внимания, чем представители других научных дисциплин, но делали они это по разным мотивам. Историки, специализирующиеся на периоде XIX — начала XX вв., чаще всего обращаются к ней для того, чтобы понять последствия промышленной революции, в особенности, роль культуры в развитии рабочего класса; значение новой, формирующейся в это время коммерческой культуры; а также новые формы использования культуры как средства социального контроля. Историки периода раннего модерна, подобно археологам, стараются отыскать исчезающие во времени следы культурной активности необразованных людей. Если историки XIX столетия свою главную задачу видят в том, чтобы защитить популярную культуру от фальсификаций и прояснить отношения, сложившиеся у нее с политикой, то историки раннего модерна просто ставят своей целью сохранение ее для истории. В этом проявляется сильный эгалитаристский импульс, реакция на традиционную историографию, которая отдает предпочтение письменным свидетельствам. Однако результаты их работы в меньшей степени связаны с современной политикой, чем работы историков XIX столетия, пытающихся распутать сложный узел проблем, возникший в результате развития связей между политикой, индустриальным капитализмом и культурой.
Медиевисты и историки раннего модерна, не пренебрегая характеристиками утонченной придворной культуры этих периодов (достигшей своих высот, а, возможно, и крайней степени падения в Версале), привлекают внимание к забытой практике представителей другой, обладающей меньшим могуществом социальной сферы. Чтобы восстановить в истории в своих правах рядовых людей, они с явным сочувствием обращаются к изучению способов распространения книжной культуры в народе, народных карнавалов, песен, шуток, картин и танцев. Для этих целей ими используются новые методы исследования, заимствованные из антропологии и социологии. А поскольку народная практика не может быть успешно понята путем экстраполяции элитарных образцов поведения или в результате изучения описаний этой практики, данной выходцами из элитных слоев общества, методологические вопросы становятся главным объектом внимания этих ученых.
Французский историк Фернанд Бродель утверждает, что ученые, вооруженные современными методами, приступают к изучению в Европе «другого» рода истории, протекающей «ниже уровня официальной политики и социального слоя богатых людей», истории постепенных (longue duree) изменений, существенно, но без заметного драматизма трансформирующих жизнь простого люда6.
Не случайно один из основателей Школы «Анналов», Люсьен Февр, обратился к изучению проблемы образования, выделив для анализа временной отрезок истории Европы между XII и XVI веками. Он и Анри-Жан Мартен написали книгу, основанную на статистических данных, относящихся к истории книгопечатания и образования7. Они попытались реконструировать модель книжной культуры и проследить те изменения, которые она претерпела после внедрения книгопечатания. Этот труд был позднее дополнен работой Натали Девис, посвященной типам неэлитарного образования и особенностям чтения, характерным для Франции в период раннего модерна, работой антрополога Жака Гуди, посвященной когнитивным механизмам овладения грамотой, также написанной в историческом ключе, и работой Елизабет Эйзенштейн о решающей роли книгопечатания в эпохи Ренессанса, Реформации и научной революции8.
Одной из центральных проблем для названных исследователей являлось определение природы образования (или образованности). Натали Девис ставит вопрос о том, чтo люди из различных социальных страт могли читать и какое воздействие на них оказывало это чтение. Она предлагает не смешивать простое умение читать с получением образованными людьми доступа к достижениям культуры. Она также считает, что реально существовавшая книжная культура того времени не являлась однородной. Автор ясно показывает, что границы ее распространения в XVI столетии не совпадали с границами грамотности, потому что грамотные часто читали книги вслух для тех, кто не умел читать. Кроме того, она замечает, что полуграмотные люди, жившие в высокообразованной городской среде, в большей мере подвергались воздействию образования, чем немногочисленные представители высокого типа образованности, проживавшие в сельской местности.
Примечательно, что Девис рассматривает чтение как активный вид деятельности. Очень часто, указывает она, читатели «переводили» попавшие в их руки тексты с французского языка на местные диалекты или «редактировали» в соответствии со своими вкусами фрагменты, взятые из больших трактатов. Вследствие этого у них появлялись бoльшие возможности для интерпретации текстов. Все сказанное служит подтверждением теоретической позиции, обозначенной Девис в начале работы: печатная книга была не столько источником идей, сколько «средством общения».
Эти взгляды разделяет и Карло Гинзбург9. Получение образования открывало перед людьми возможность мыслить по-новому, подчеркивает автор, но это не значит, что, научившись читать и писать, они автоматически начинали думать, «как образованные». Неграмотные люди получали возможность становиться субъектами книжной культуры и принимать образцы поведения «образованных» сословий, а читатели, сохранявшие связи с архаичной устной культурой, могли использовать свойственные ей методы мышления. Гинзбург приводит в качестве примера происшедший в XVI столетии случай с мельником, который создал идеосинкретическую ересь на основе того, что «вычитал» из множества религиозных и «исторических» книг. Этот человек умел «читать», но при этом использовал, методы мышления и интерпретации текста характерные для устной культуры. Он в равной мере доверял книгам, содержащим мифологические, теологические и научные фрагменты; более того, все это он расценивал как материал, подходящий для его собственных повествований. Из всего прочитанного мельник создал идеосинкретический миф, который был столь тщательно разработан и о котором он говорил так уверенно, что католическая церковь решила, будто он является членом большой еретической секты.
Ныне вошло в обычай употреблять слово «чтение» как метафору для интерпретации любого культурного объекта — как книги, так и произведения изобразительного искусства, общественного ритуала, народного костюма. Стало также общим правилом мыслить культурные объекты как нечто, содержащееся в «коде», в «языке» или извлекаемое из них. Трактовка «образованности» как понятия и «чтения» как метафоры создает некоторые новые проблемы. Исследователи тех типов образованности, которые бытовали в Европе до XVIII века, убеждаются в том, что низкий уровень грамотности создает барьеры непонимания между нами и людьми отдаленных эпох. Недостаток дневников и других первичных источников, конечно, ограничивает наше знакомство с «голосами» из прошлого, но проблема представляется более серьезной. Мы узнаем о неграмотных людях прошлого из текстов, написанных с точки зрения людей, принадлежавших к культуре, для которой были характерны высокие образовательные стандарты, и использующих приемы мышления и чувствования, которых не могли использовать люди неграмотные. Поэтому частью задачи, рассматриваемой историками поп-культуры этого периода в качестве научного проекта, причем задачи очень трудной, является раскрытие культурных оснований соответствующих эпох, которые разительно отличаются от культурных оснований нашего времени.
Для реализации данного проекта историки «Анналов» предложили использовать антропологические теории и методы. Ведь антропологи разработали свои научные методики для изучения (первичных) необразованных групп. Поп-культура средневековья и раннего модерна часто выступала как культура представлений, заполненная ритуалами и церемониями, днями святых и другими религиозными праздниками. Исследование всех этих феноменов обычно относят к области антропологии. (Если «чтение» является одним из главных понятий новых исследований поп-культуры, то «представление», или perfomance, — это другое важнейшее понятие.)
Наиболее предприимчивые историки пробуют соединить статистические и антропологические методы — и иногда с большим успехом. В магистерской диссертации Эммануэля Лядюри используются данные о налогообложении и дается пример антропологического прочтения народных ритуалов, достигавших своего апогея в карнавале10. Он реконструирует ход событий по дневникам двух богатых людей, принимая во внимание и комментируя выражаемые ими различные точки зрения на происходящее. Примечательно, что автор описывает главных действующих лиц этих событий в терминах социальных характеристик, сконструированных на основе налоговых списков и записей в гостиничных книгах прибывших, а также анализирует символику карнавала, которая указывает на обобщающий характер политического содержания данного события.
Интерес к символическим формам выражения политического протеста и отточенная техника антропологического анализа демонстрируются в известной работе историка Роберта Дарнтона «Великая кошачья резня»11. Дарнтон показывает, как недовольство подмастерьев, занятых в печатной мастерской XVI века (обратите внимание: опять книгопечатание), выливается в акты враждебности и насилия. Но подмастерья не делают ни мастера (источник их угнетения), ни его жену (источник крушения многих их надежд) непосредственными объектами возмездия. Они избирают символические средства, превращая хозяйскую кошку в объект своего недовольства, и сосредотачивают свою ненависть на животном. Молодые люди не стремились к открытому политическому действию, дававшему выход жалобам и требованиям — что делали многие из участников крестьянских восстаний, — но выразили свои чувства более безопасным способом — символическим. Результат был не менее эффективным. Значение их действий было достаточно очевидным для работодателей и воспринималось ими как угроза. В данном случае культурно оформленное действо (perfomance) предстает перед нами как часть культурной политики.
Несмотря на то, что карнавалы и вышеописанная «Кошачья резня» могут рассматриваться как примеры использования культуры в интересах политической борьбы, их нельзя смешивать с организованным политическим сопротивлением, какое было свойственно, например, XIX веку. Самодеятельные артисты из социальных низов в обоих случаях использовали символы общепринятой культуры как способы указания на свое подчиненное положение и как отдушину для выражения своего несогласия, но в эпоху Возрождения люди еще не могли сопротивляться культуре как таковой и не протестовали против фундаментальных основ социальной иерархии, к которой они принадлежали. Эти символические протесты не были действиями грубых, неотесанных крестьян (если таковые когда-либо существовали); это были акты, совершенные образованными людьми, овладевшими техникой «чтения» политических отношений и культурной символики.
В отличие от историков раннего модерна, историки XIX века озабочены не столько идеей сохранения культуры народных масс как таковой, сколько желанием прояснить и описать политическое значение и функции культуры, актуализируемые в процессе индустриализации. Их интересует, в частности, как поп-культура в одно и то же время могла содействовать установлению системы социального контроля элитарных групп над неэлитарными, в особенности — над рабочими и женщинами, а с другой стороны — способствовать выражению новых аспектов социальной интеграции и дифференциации.
Подчеркнутое внимание к занимающим подчиненное положение социальным группам — крепостным, иммигрантам, женщинам — стало примечательной чертой многих исторических исследований. Исторические труды теперь часто пишутся, как говорится, «снизу вверх». Показательным, а во многих отношениях и образцовым исследованием, посвященным рабочему классу, стала вышедшая в 1963 г. монография независимого британского исследователя Е.П.Томпсона «Как создавался английский рабочий класс»12. В этой необычайно сильной, содержательной работе доказывается, что превращение рабочего класса Англии периода ранней индустриализации в организованную и сознательную социальную группу было не автоматическим, пассивным ответом на изменения в промышленности, а результатом целенаправленных действий общественных сил, обусловленных определенными экономическими факторами. Английский рабочий класс был не только рабочим классом Англии, но и английским рабочим классом, сознающим свою новую политическую роль в категориях, признанных в английском обществе. Томпсон подчеркивает, что политические амбиции рабочих в большинстве случаев вырастали из веры в традиционный моральный порядок, и главную роль тут сыграло не новое революционное мировоззрение, а сознание прав «свободнорожденного гражданина Англии», другими словами, понимание ими своей культурной укорененности. Это понимание передавалось от поколения к поколению — в песнях и устных рассказах, на собраниях землячеств (fraternal organizations) и в адаптированных пересказах истории и мифов. Все это решающим образом повлияло на характер организаций и политику нового рабочего класса. Представители последнего видели перед собой образ прошлого, который мог служить примером для созидания и борьбы за будущее.
Историки рабочего класса по-разному истолковывают его культуру и отношения последней к фактору власти. Некоторые исследователи, такие как Томпсон и Гарет Стедман Джонс, считают важным понять, как рабочая культура способствовала формированию классового самосознания, вдохновлявшего рабочих на политические акции13. Другие ученые, как, например, Кэти Пейс и Рой Розенцвейг (США), полагают, что важнее объяснить, как рабочим удавалось сохранять свою культурную автономию и развивать собственные традиции на протяжении XIX столетия14. Они видят в культурной деятельности рабочих своего рода «летопись» их классовой борьбы.
Розенцвейг приводит ряд соображений о том, почему и как велась борьба с пьянством, распространенным в некоторых этнических группах рабочего класса. Эта привычка, имевшая свои корни в доиндустриальной эпохе, вступала в вопиющее противоречие с экономическими интересами и гегемонистскими устремлениями социальной элиты. Культура рабочих, включавшая традиционную выпивку на рабочем месте, снижала эффективность труда на фабриках и ставила под вопрос возможность предпринимателей контролировать поведение наемного персонала как в рабочее, так и в свободное время. Носившее форму традиции, пьянство не только противоречило нормам протестантской этики, требующей полной самоотдачи в трудовом процессе; оно расшатывало основы американского индивидуализма, поскольку обычай пьянствовать имел подчеркнуто коллективный характер. Кроме того, вследствие распространения питейных заведений в непосредственной близости от фабричных районов этот обычай (на своих ранних стадиях) стирал необходимые различия между рабочим местом и домом. Такое пьянство воспринималось не только как форма сопротивления контролю со стороны элитных групп общества, но и как покушение на основы господствующей культуры. Таким образом, оно имело политическое значение, хотя и не замышлялось как политический акт и не пыталось выдать себя за таковой.
Проблема культурного сопротивления контролю элит занимает центральное место в работах Кэти Пейс и Долорес Хэйден, избравших в качестве объекта феминистские движения15. Они стремятся выявить границы и способы установления господства определенных элитных групп (конкретно — мужчин, выступающих в качестве элиты) в культуре. Вместе с тем авторы приводят примеры того, как женщины-работницы и женщины, принадлежащие к элитарным группам, разными способами пытались создавать свою собственную (гендерную) культуру, которая могла бы служить их социальным и политическим интересам. В некоторых случаях женщины следовали тем или иным традиционным образцам, например, патриархальным; в других же случаях они видоизменяли господствующие культурные нормы в желательном для себя направлении. Так, женщины элитарных групп использовали индустриальную технику, чтобы реорганизовать домашнюю жизнь на коллективистских принципах или в духе модных для того времени социальных утопий. В условиях домашнего быта они стремились освободиться от физической и социальной изоляции и вместе с тем не стать жертвами нового разделения труда между полами, которым сопровождался процесс индустриализации. Женщины-работницы, используя вновь обретенную экономическую самостоятельность, покупали одежду, копирующую модные образцы, Однако при выборе ее отдавали предпочтение ярким тонам и кричащим фасонам, которые в то время ассоциировались с образом проститутки. Они репродуцировали модные образцы в той мере, в какой те могли служить выражению символики пола, но при этом переделывали их на свой лад, вкладывая в манеру одеваться свой протест против господствующих вкусов.
Термин «гегемония» с недавнего времени стал широко употребляться во всех исследованиях поп-культуры. Этот термин применяется теперь — иногда весьма отвлеченно — для описания любых аспектов культуры, идеологии или образцов практической деятельности, посредством которых элиты навязывают обществу свои взгляды, привилегии и легитимируют свою власть над неэлитарными группами. В известном смысле «гегемония» становится синонимом «доминирования». Однако более точное назначение этого понятия, как оно было представлено в политологических работах итальянского автора-коммуниста Антонио Грамши, заключалось в том, чтобы объяснить, как доминирующие классы могут управлять, не применяя насилия. Грамши пришел к выводу, что угнетенные группы, принимая предлагаемые элитами категориальные определения мира за общезначимые, тем самым принимают участие в поддержании социального порядка, который делает возможным подавление их самих.
Историки, изучающие популярную культуру XIX столетия, интересуются не только проблемой культурной гегемонии и протеста. Во многих работах обсуждаются социальные образцы и отношения, действующие внутри доминирующей культуры. Такие ученые, как Росалинд Уильямс, Гюнтер Барт, Алан Трахтенберг, пытаются выяснить, почему профессиональный спорт, коммерческие выставки или универсальные магазины одинаково вызывают восхищение у людей, несмотря на различие занимаемых ими социальных позиций16. Они рассматривают формирование гегемонистской нормативной системы как предпосылку создания массового общества.
В работах Лоуренс Левайн дается впечатляющая картина изменений в XIX веке, на фоне которых происходило разграничение между популярной и «высокой» культурами. Исследуя восприятие публикой шекспировских пьес в Соединенных Штатах, Левайн показывает, что разделительная линия между популярной и элитарной культурами сформировалась в результате сложной культурной политики. Она отмечает, что в начале столетия эти пьесы воспринимались всеми как неотъемлемая часть самобытной «американской» культуры и больше объединяли, чем разделяли разные слои американского общества. Шекспира ставили на самодеятельных сценах в сельских районах с тем же удовольствием, что и в профессиональных городских театрах. Аудитория была гетерогенной, больше похожей на аудиторию, которая собирается во время современных легкоатлетических соревнований, чем на нынешнюю театральную публику. Только в конце столетия Шекспир был присвоен высокой культурой, уверовавшей в свое интеллектуальное превосходство над массами. Эта история очень напоминает другую, которую рассказал Поль Димаггио, — историю о двух учреждениях «высокой культуры», появившихся в конце XIX века: Бостонском симфоническом оркестре и Бостонском музее изящных искусств. Автор показывает, что в обоих случаях учреждения сознательно и целеустремленно создавались элитными группами общества, чтобы сделать более явным их высокий статус в дискомфортной, текучей городской среде, размывающей классовые перегородки. Левайн и Димаггио сходятся во мнении, что «высокая культура» возникла в конце XIX столетия главным образом не из-за разницы в эстетических предпочтениях, а как форма культурной политики — рестратификации общества путем создания определенных типов культурных организаций и эстетических стандартов17.
Левайн указывает на некоторые особенности шекспировских текстов, сделавшие их «конгениальными» американской культуре: их ораторский стиль («как политические речи в парламенте»), мелодраматизм, индивидуалистичность и акцент на морализирование. Все это вполне отвечало американским ценностям начала XIX века, и шекспировские постановки способствовали прославлению и утверждению этих ценностей. Восприятие пьес Шекспира в качестве литературного явления, а не наглядного урока морали привело к тому, что сферой утверждения индивидуализма и морализаторства стали другие произведения искусства (такие, как сентиментальный роман). Шекспировские тексты сделались «носителями» американских ценностей для элитных групп, частью новой привилегированной культурной территории (той, где стали размещаться музеи и исполняться симфонии), но это произошло не раньше, чем данные тексты сплотили американскую нацию, выразив ее идеалы индивидуальной свободы и ответственности.
Росалинд Уильямс анализирует происшедший в конце XIX века подъем массовой коммерческой культуры — культуры, которая приобрела потребительский и вызывающе броский характер и которую некоторые элитные группы поддерживали, а другие чуть ли не открыто отвергали. Работа Уильямс при первом знакомстве наводит на мысль о традициях школы Анналов, поскольку в ней привлекается внимание к объектам, которые сами по себе достаточно необычны для серьезного исторического исследования: к торгово-промышленным ярмаркам и выставкам (специфическим продуктам эпохи модерна — символам подъема производительных сил, происходившего в середине XIX века); к универсальным магазинам и другим современным учреждениям торговли; к кинотеатрам, ночным заведениям, существование которых стало возможным благодаря изобретению электрического освещения. Однако Уильямс написала данную работу, чтобы вынести на обсуждение новые фундаментальные теоретические и политические вопросы, связанные с воздействием массовой культуры на общество. Радости потребительства, ранее достававшиеся исключительно элитным группам, теперь стали доступными и широким народным массам. Хорошо или плохо это для людей? Как это повлияло на самоопределение элитных групп? Как элитарная культура изменялась в ответ на эти новшества? Как мировая экономика влияла на эстетику массового потребления?
Из анализа Ульямс следует, что приведенные вопросы впервые были поставлены не критиками культуры XX столетия, размышлявшими о роли рекламы, народных развлечений или потребительской культуры в целом, — эти же вопросы находились в центре внимания интеллектуальных кругов конца XIX столетия, когда произошло настоящее вулканическое извержение в области массовой культуры. Уильямс воскрешает голоса прошлого, впервые определившие массовую культуру как вульгарную и неаутентичную, ориентированную на вкусовые притязаниям низкого уровня. Исследовательница доказывает, что подобное направление в рассуждениях выдает стремление переопределить элитарную культуру после того, как ее ранее известные формы стали доступны массам. В начале века такие законодатели вкусов, как Б.Брумель, отвергли эстетику французской придворной культуры, обратив свои взоры на простоту и совершенство как на признаки, свидетельствующие о подлинной изысканности. Тем самым они отмежевывались от образцов, предлагаемых для массовой публики, квалифицируя их как «безвкусицу». Их усилия, направленные на утверждение новых вкусов, позднее были подняты на щит интеллектуалами, осуждавшими «безликость» моды, демонстративное статусное потребление и пр., в то время как массы только начали по-настоящему знакомиться со всеми этими явлениями.
Хотя Уильямс не оценивает культуру XIX столетия как предшественницу «постмодерна», ее описания очень близки к тому, что люди в последние годы стали обозначать этим термином. Ярмарка (или распродажа), универсальный магазин и газета создавали условия для возникновения модернистской городской культуры, но они также способствовали и формированию стиля, который Уильямс называет синкретическим, алогичным, кричащим, хаотическим (chaotic-exotic style)... Формы поп-культуры эпохи «модерна» уже включали в себе зародыши постмодернизма, поскольку организационно-экономические и технологические источники широкой потребительской культуры и разноголосица ее внутренних форм обозначились уже в XIX столетии.
Антропологические подходы к поп-культуре
Опыт антропологического изучения был очень важен для интенсификации исследований популярной культуры, проводимых усилиями многих научных дисциплин. Однако интерес к современным формам поп-культуры разделяется далеко не всеми антропологами. Поэтому необходимо выделить два движения, особо примечательных с этой точки зрения: структурализм и интерпретивизм.
Первое из названных движений, вдохновляемое концепциями лингвистики и работами французского антрополога Клода Леви-Стросса, вовлекает в сферу антропологических исследований обширный круг объектов, включая структуры родства и мифологии. Леви-Стросс и его последователи основывали свою работу на положении о том, что язык фундаментально структурирован и что он, в свою очередь, является структурообразующим элементом культуры. Лингвистические системы упорядочивают жизненный опыт индивидов и снабжают их средствами для образования сложных культурных форм. Исходя из этого, Леви-Стросс утверждал, что даже «простые» общества имеют сложные культуры, потому что все общества обладают относительно сложными языковыми системами. Развивая эту мысль далее, можно предположить (как многие и сделали), что все культурные выражения имеют сложные глубинные структуры, а так как лингвистические системы обладают структурными сходствами, то все культуры могут быть подвергнуты сравнительному анализу.
Структуралисты исходят из посылки, в соответствии с которой человеческий разум действует универсальным образом, упорядочивая потоки опыта в виде бинарных оппозиций: мужского-женского, священного-профанного, чистого-нечистого, внутреннего-внешнего, своего (родного)-чужого и, в особенности, природного-культурного. Люди осмысляют мир посредством этих бинарных оппозиций и выстраивают чувственные образы — растений, животных, цветов, человеческого тела, погодных явлений, географических феноменов — в определенном когнитивном порядке. Вещи, преступающие границы общепринятых категорий, кажутся «аномалиями» и несут на себе отпечаток связанной с ними опасности, магии или свидетельствуют о наличии в них скрытого значения. Религиозные системы и мифы — это культурные конструкции, содержащие тщательно разработанные обществом системы когнитивных понятий. Когнитивные категории имеют социальное, моральное и интеллектуальное значение.
В эссе, посвященном тотемизму, Леви-Стросс переосмыслил некоторые азбучные истины антропологии18. Как мы должны относиться к первоисточникам, объяснять роль и значение тотемических религий? Может ли быть извлечен какой-нибудь смысл из отдельных произвольных сопоставлений между социальными общностями (скажем, кланом «медведя» и кланом «орла») и тотемическими объектами (образом медведя и образом орла), которым данные общности поклоняются? Леви-Стросс дал афористический ответ на этот давний вопрос. Тотемы, заключает он, — это «хорошие орудия мысли»19. Иначе говоря, предметом анализа должны быть не отдельные тотемические объекты, а система тотемических символов как единое целое, и сущность тотемизма может быть понята через соотнесение фактической дифференциации социальных групп с дифференциацией символов.
Для Леви-Стросса религия — это не проблема духа, а проблема разума. Точно так же, для антрополога Мери Дуглас потребительство — это в первую очередь не проблема производства дешевых товаров для массового рынка, а проблема функционирования определенной системы культурных значений, интегрирующей общество в систему20. В каждый отдельно взятый момент истории коммуникация и интеллектуальная деятельность становятся возможными только в рамках, налагаемых определенными символическими или материальными категоризациями мира. Леви-Стросс писал в исследовании по южно-американской мифологии, что его книга не о том, «как люди думают при помощи мифов, а о том, как мифы действуют в сознании людей, не отдающих себе в этом отчета».
Идеи структуралистов оказали огромное влияние на исследования первобытной мифологии, религии и ритуалов. Они также были применены и к современным индустриальным обществам. Уилл Райт использовал систему Леви-Стросса для анализа западного кино. Юдит Уильямсон проделала такую же работу с рекламой, Е.А.Лоуренс — с родео, а Поль Буиссак — с цирком21. Но замечательнее всего то, как Ролан Барт превратил структурализм в универсальный метод анализа современной моды, рекламного дела, архитектуры, литературы и поп-культуры в целом. Во всех этих случаях структуралисты стремились заменить избитую антропологическую дефиницию культуры как «образа жизни» воззрением на культуру как на разделяемые людьми ментальные категории и «правила», которые определяют способы восприятия, мышления и действий.
Интерпретивистское течение в антропологии непосредственно связано с исследованиями популярной культуры как внутри самой антропологической теории, так и в ряде смежных социальных наук. Оно отличается от структурализма акцентом на образцах чувствования и переживания, в то время как структурализм делает акцент на когнитивных структурах. Существенное методологическое различие заключается и в том, что при подобном подходе исследователю предписывается понимать человеческий опыт с учетом внутренней позиции субъекта.
Интерпретивистская традиция обязана своим возникновением прежде всего американскому антропологу Клиффорду Гиртцу22. Его влияние сегодня признается в истории, социологии, теории коммуникаций, даже в литературоведении, не говоря уже о собственно антропологии (хотя в антропологии его порой осуждают за недостаточно критичный и нерефлексивный подход к полевым исследованиям). Гиртц разрабатывает концепцию «культурной системы», которая сильно отличается от социальной системы (термин, который он заимствовал у социолога Талкота Парсонса). Как и структуралисты, Гиртц связывает производство значений с символами (и отношениями внутри символических систем). Но, в отличие от них, Гиртц избегает формальных методов анализа, которые чреваты отрывом символического от социального. Хотя в теории он разделяет «культуру» (систему символов) и «общество» (систему социальных отношений), на практике этот ученый стремится понять их взаимную обусловленность.
Порой структуралистская матрица предлагается как общий метод и подход, который может применяться почти механически, однако результаты его, даже если они включают некоторый опыт содержательного наблюдения, остаются весьма произвольными и необоснованными. Допустим, Леви-Стросс прав в том, что миф об Эдипе больше связан с переоценкой, чем с недооценкой родственных отношений, или в том, что фигура «трикстера» в мифологии американских индейцев важна, так как ей присущи качества «аномальности» и «медиативности», — что дальше? Что это объясняет? И в какой степени все эти тонкости интерпретации приближают нас к общему пониманию роли культуры в обществе?
В работах Гиртца никогда не поднимаются подобные вопросы. Он глубоко убежден в неслучайном характере отношений между символами и соотнесенности их с социальным порядком — так сказать, в действенности культуры. В одной из самых известных работ Гиртца объясняется, как обычай петушиных боев в Бали способствует осознанию балийским обществом ценностей солидарности и социальной стратификации. Автор также показывает, как эти ценности проявляются на уровне личной психологии в виде своеобразных отношений, связывающих балийца с его «боевым петухом». Но далее он сталкивается с неизбежным для каждого культуролога вопросом: если культура только «выражает» социальный порядок, то о чем беспокоиться? Если же она «усиливает» определенный социальный порядок, то с какой целью? Почему социальный порядок нуждается в выражении и усилении? Не означает ли концепция «усиления», что культура оказывается излишней, что она без видимой цели дублирует уже существующее?
Гиртц дает интригующий ответ на этот вопрос: культура не есть лишь отражение социальных установлений или психологических ожиданий, она также является производством смысла. И вот в чем ее суть: дать балийцам текст, который представляет балийское общество ему самому и тем самым дает возможность и повод каждому балийцу думать и передумывать, чувствовать и переживать заново, что означает быть балийцем! Не все саморепрезентации общества равноценны. Каждая из них может описывать или шаржировать общество различным способом — это обстоятельство отмечает сам Гиртц, не делая на нем, однако, явного акцента. Петушиные бои отображают балийское общество не зеркально, а как бы в форме коллективного мысленного эксперимента, т.е. таким, каким оно могло бы стать, если бы некоторые существенные тенденции и способы выражения эмоций были доведены до логического завершения. Петушиные бои — это безопасный, культурно узаконенный способ проверки того, что может произойти, если определенные тенденции в социальном порядке станут бесконтрольными. В общем, это тот же вид коллективного мысленного эксперимента, который мы находим в «Короле Лире», поясняет Гиртц: что может произойти, если отцы и дочери не будут относиться друг к другу с должным уважением и любовью. Автор утверждает, что петушиные бои можно «читать», как текст, подобно тому, как литературные критики читают «Короля Лира». Петушиный бой является «школой чувств» для балийца. Не случайно Гиртц анализирует «высокое» искусство в том же духе: произведения искусства, — пишет он, имея в виду любое произведение высокого, коммерческого, народного искусства, — важны прежде всего потому, что они «материализуют ментальную деятельность, проецируют состояния сознания на мир объектов, где человек может наблюдать их предметно»23.
Влияние рассмотренного исследования и других работ Гиртца на различные области знания и в целом на исследования поп-культуры имело два аспекта. Во-первых, оно способствовало расширению круга объектов, которые считались заслуживающими изучения. Влияние Гиртца тут не было уникальным, но тем не менее оно было существенным.
Во-вторых, в нем предлагалось в качестве методологического указания или, по меньшей мере, ключевой фразы, «насыщенное описание»24. В отличие от структуралистов, интерпретивисты не разъясняют того, как следует проводить исследования. Что означает насыщенное описание? Гиртц не говорит, как его можно использовать в целях объяснения. Он отвергает представление об антропологии как о науке, подобной естественным; но что за науку он имеет в виду конкретно, остается не вполне ясным... По-видимому, идея «насыщенного описания» в качестве научного требования означает не просто эмпирическую фиксацию фактов, а аналитическую процедуру, доведенную до определенного уровня интенсивности и надежности, предполагающую глубокую погруженность в исследуемые социальные отношения; это такого рода описание, которое, например, журналист, заглянувший в Бали на пару дней или на неделю, сделать бы не сумел.
Антропологи, которых можно было бы назвать неодюркгеймианцами, в особенности Виктор Тернер и его ученики, концентируют свое внимание на аспектах человеческой деятельности, преднамеренно выводимых из потока социальной жизни и противопоставляемых повседневному существованию в качестве «антиструктур», «гиперструктур», или того, что Элиу Катц с коллегами называют «высокими праздниками» культуры25. Главными объектами их внимания становятся церемонии, ритуалы, праздники и представления. Виктор Тернер указывает на роль «социальных драм», «актов публичной поддержки», в которых предстают перед нами жизненные, социальные конфликты, будь то судебные заседания, собрания старейшин или какие-либо другие виды ритуальных действий. Последние не просто вопроизводят или отражают существующие социальные структуры и социальные различия. Это суть представления (perfomances), которые Тернер называет общественными формами «сослагательного наклонения». Ритуалы, карнавалы, праздники, театральные и другие представления в большей мере выражают «предположения, желания, гипотезы, возможности», чем факты реальности. Барбара Бэбкок, исследовавшая клоунские представлениях у индейцев юго-запада США, приходит к выводу, что эти представления являют собой форму наглядного философствования, метаязыка и комментария к социальной жизни, они «ломают и нарушают привычные образцы, нормальную логику и синтаксис и открывают пространство для вопрошания, для глубокомысленного и ироничного диалога»26.
Все ритуалы, в соответствии с тернеровской формулой, имеют начальную фазу, отделяющую обряд от повседневной жизни, вторую фазу — «лиминальную», или «ни то ни се», когда временно перестают действовать обычные роли и правила, а также финальную фазу возврата к повседневной жизни. Кстати, Гиртц замечает, что универсальность тернеровской концепции, ее приложимость и к восстаниям в Мексике, и к исландским сагам, и к карнавалу на островах Карибского моря свидетельствуют о ее недостатках, ибо «полные живых различий события кажутся однообразными и гомогенными». К этому можно добавить, что тернеровская, или неодюркгеймианская, традиция обычно используется не только для анализа, но и для пропаганды перформативных, обрядовых жанров. Здесь антропологи, подобно фольклористам и историкам, не только указывают на элементы театрализации в социальной жизни, но и «предлагают» их нашему вниманию.
Все это создает в академических кругах известную напряженность в связи с исследованиями по поп-культуре. Любой, кто всерьез занимается данной темой, бросает вызов традиции, предписывающей с пиететом относиться к «высокой» культуре, и часто принимается коллегами либо за поверхностного человека, либо за ниспровергателя норм.
В роли такого «ниспровергателя» выступает, например, Маршал Сахлинс, выпустивший блестящую книгу «Культура и практический разум»27. Резюмируя содержание собственной работы, он пишет: «Эта книга является вкладом в антропологическую критику идеи о том, что человеческая культура формируется на основе практической деятельности и, следовательно, берет свое начало в утилитарных интересах». Далее он нападает и на экономику как на научную дисциплину, и на марксизм, который исходит из экономических предпосылок. Работа Сахлинса начинается с вопроса: почему так трудно применить методологию Маркса к трайбалистскому обществу? Его ответ звучит иронически: Маркс был буржуазным идеологом, продуктом своего класса, своего времени и его предрассудков, т.е. мыслителем, впитавшим общий дух и нерефлексируемые культурные предпосылки социальной системы, отдававшей приоритет личным интересам. Марксистская теория довольно точно описывают буржуазный мир, но при этом она бессознательно воспринимает буржуазные принципы рациональности. Даже в Америке, самом буржуазном и утилитаристском из всех обществ, «культура» устанавливает границы, в которых определяются мотивы личной заинтересованности. «Фермеры связаны личными отношениями не потому, что они вступают в процесс производства, но, наоборот, они включаются в производство потому, что находятся в определенных личных отношениях». Работа Сахлинса содержит обоснованную критику тенденций неоклассической экономической мысли, выдающей за универсальные человеческие мотивы то, что в действительности является исторически обусловленной мотивационной структурой западного капитализма, а также и марксизма, вдохновляющего многие современные исследования популярной культуры.
В работе Мари Дуглас «Шутки» удачно соединяются небольшие количества фрейдизма и структурализма с доброй толикой старомодного социологического анализа. Дуглас выступает против конвенций британской социальной антропологии, которая рассматривала «ритуальную шутку» как форму разрядки напряженности в социальных отношениях, имеющих конфликтную структуру, как, например, отношения между свекровью и невесткой, характерные для некоторых культур. Такая трактовка низводит роль шутки к выкрику, эмоциональному всплеску, отмечающему приближение к болевым точкам социальных отношений. Дуглас, напротив, утверждает, что шутка доставляет экспрессивное и интеллектуальное удовлетворение и тем, кто ее произносит, и тем, кто ее слышит. Как и Фрейд, она думает, что «удовольствие от шутки связано с некоторым родом экономии», и она определяет шутку как «обыгрывание формы».
Дуглас показывает, что шутка как род формальной игры выполняет роль отрицания. Но она является также тем, за что люди обычно ее принимают, т.е. фривольностью. Конечно, не всегда есть место для шутки; некоторые предметы или ситуации считаются священными или такими, что их слишком опасно подвергать осмеянию. Поэтому Дуглас переносит свое внимание с содержания шутки на условия, делающие возможным ее публичное выражение. По мнению автора, отношения между социальным и символическим очень близкие. Шутка — это не только зеркало социальной структуры, но и определенный вид опыта, развиваемый данной структурой. Подобный опыт периодически делает необходимым открытое осмеяние в моменты, когда происходит изменение в социальных отношениях и (или) в формах их осознания.
Таким образом, в рассматриваемых работах антропологов культура понимается как своеобразное мышление общества «вслух» о самом себе. Демократизм, «понижение» уровня культурных и социальных форм, к которым адресуется внимание исследователей, — все это можно расценить как вызов взглядам на культуру, принятым в западной мысли.
Производство культуры: социологический подход
В начале ХХ столетия, когда американская социология развивалась на основе собственных духовных корней, связанных с протестантским движением социального реформизма, и была весьма озабочена «социальными проблемами», поп-культура вся без изъятий включалась в область социологических исследований. Первые американские социологи и близкие к ним писатели не стеснялись открыто выражать свой интерес к ней. Бывший журналист и ученик Георга Зиммеля Роберт Парк изучал газеты; Джон Деви, оказавший влияние на социологию, социальную психологию и образование, также писал о прессе. Торстейн Веблен, экономист и социальный критик, создавший трактат о «праздном классе», интересовался всем, что касается жизни состоятельных людей — начиная с увлечения спортом и кончая ливреями их слуг28.
Когда был введен учебный курс социологии в Чикагском университете, студентам рекомендовалось изучать повседневную жизнь обычных и «не совсем обычных» людей. В работе Уильяма Томаса и Флориана Знанецки «Польские крестьяне в Европе и Америке», ставшей визитной карточкой Чикагской школы, использовались источники, раскрывавшие социальную жизнь во всем ее многообразии: автобиографии, дневники, письма польских иммигрантов29. Авторы изучали семью, школу, иммигрантскую прессу, проституцию, дансинги, ностальгические воспоминания иммигрантов об оставленной родине. Принадлежавшие к другой традиции — к христианскому социальному реформизму, Роберт и Хелен Линд опубликовали в 1929 г. «Миддлтаун», тем самым положив начало традиции американской социологии, помещающей в центр своего внимания жизнь городских «коммьюнити»30. Супруги Линд подходили к «среднему» американскому городу как антропологи, изучающие жизнь экзотического племени.
Несмотря на эти успехи, в социологии сформировалось двойственное отношение к исследованиям поп-культуры. После того, как в 30-е и последующие годы Америка познакомилась с европейской социальной мыслью, интерес к популярной культуре несколько ослаб. Массовая культура чаще стала рассматриваться как симптом упадка цивилизации в капиталистическом обществе. До 50-х годов самые известные работы в этой области выходили из-под пера (либо были написаны под влиянием) представителей Франкфуртской школы, а также ее критиков. В типичной для того времени антологии «Массовая культура» (1957 г.), подготовленной Дэвидом Маннингом Уайтом и Бернардом Розенбергом, центральное место отводилось дискуссии о «массовой культуре»31. В этой дискуссии взвешивались опасности и перспективы индустриально-массового производства культуры с точки зрения политического просвещения и культурного развития граждан.
Упомянутая дискуссия продолжается и по сей день. Она периодически возобновляется критиками новых информационных технологий (телевидения, видеоигр, а с недавнего времени и спутниковых коммуникаций), рекламы — потребительской культуры в целом. Содержание данной дискуссии в общих чертах обобщено и проанализировано Гербертом Гансом в 1974 г.. Ганс выступил с острыми возражениями против «критиков» массовой культуры. Он находил их аргументы необоснованными, их свидетельства о пагубных последствиях влияния массовой культуры — слабыми или несущественными, а общий смысл их неудовлетворенности связывал не с политическим радикализмом, который старались демонстрировать некоторые критики, а со специфическими вкусами преуспевающих «средних» американцев, с которыми эти интеллектуалы себя отождествляли. По мнению Ганса, предубеждение против массовой культуры в большей степени свидетельствует об интеллектуальной ограниченности, чем о политической позиции.
Хотя дискуссия о массовой культуре отвлекала внимание социологии от эмпирического изучения культурных феноменов, тем не менее интерес к работе такого рода продолжал сохраняться, о чем может свидетельствовать, например, известная книга «Одинокая толпа» (1950 г.), написанная Дэвидом Рисменом, Натаном Глазером и Рел Денни33. Сложные социологические проблемы популярной культуры рассматриваются в работах Д.Рисмена, защищающего ее от «высоколобых» критиков (в частности тех, кто утверждает, что новый супермаркет — более подходящее место для общественного досуга, чем парк, или пытается доказать, что книги сильнее развивают интеллект, чем радио и телевидение). Но он точно так же готов защищать культуру высокообразованного меньшинства от «снобизма наоборот» и от «расового романтизма».
Современные социологические исследования вышли за рамки дискуссии о моральной и эстетической ценности поп-культуры. В качестве актуальных задач выдвигается исследование ее семантической структуры, а также проблем ее производства внутри (и для) определенных социальных групп. Большинство современных работ по поп-культуре в Соединенных Штатах выполняются приверженцами концепции «производства культуры», использующими методы социологии занятости и организаций для анализа социальных условий культурного производства, т. е. деятельности художников, кинематографистов и пр. Наблюдается также возрождение интереса социологов (в том числе и многих ученых в Европе) к стратификационным функциям культурных систем, к тому, как социальные группы идентифицируют себя посредством культурных различий и как они создают культурные учреждения, удовлетворяющие запросы их представителей. Оба эти подхода открывают новые перспективы для анализа культурных объектов и систем, не связанного с резким противопоставлением элитарной и популярной культуры.
Концепции «производства культуры» основываются на посылке о том, что создание объектов культуры, будь то «искусство» или «массовая культура», предполагает трудовую кооперацию и решение социально-групповых проблем, которые доступны для анализа с помощью общепринятых социологических методов. Обнаружение социальных механизмов, работающих независимо от эстетических критериев, делает изучение массовой культуры не более и не менее важным, чем изучение шедевров искусства. С точки зрения некоторых авторов, придерживающихся данного направления, исследование искусства должно быть включено в сферу внимания социологии рынка и организаций, другие авторы считают, что искусство должно стать предметом социологии труда и занятости. И в том, и в другом случае разрушается образ художника-гения, творчество которого может лишь оцениваться, но никак не анализироваться. Ему на смену приходит образ работника, привязанности и занятия которого могут быть подвергнуты систематическому изучению.
Школа культурной стратификации, как мы могли бы ее здесь назвать (ее представляет, в частности, Пьер Бурдье), выдвигает тезис о том, что культурные различия и общественное внимание к культурной дифференциации социологически очень показательны, так как они связаны с фундаментальными признаками социальной стратификации. Социальное деление подкрепляется культурными различиями между группами и индивидами. Поскольку изучение стратификации требует внимания к некоторым культурным аспектам, феномену народной культуры отводится существенная (но не определяющая) роль.
Некоторые социологи в США в большей мере опираются на традиции европейской социальной теории, чем на работы своих американских предшественников. Они ссылаются на Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера как на социологов народной религии. Однако ни Вебер, ни Дюркгейм не оказали непосредственного влияния на работы по поп-культуре. Ссылки на Вебера служат скорее поводом для высказывания собственных суждений, ибо, в действительности, американские исследователи проявляют мало интереса к религии как таковой. Социологические исследования культуры, более укорененные в американских традициях, выросли из символического интеракционизма. В этих работах, в соответствии с линией преемственности, идущей от Роберта Парка и Джорджа Герберта Мида из Чикагского университета (а еще ранее — от американского прагматизма Джона Дьюи и Уильяма Джеймса и др.), главный акцент делается на том, каким образом люди формируют смыслы и значения и как в процессе повседневных социальных взаимодействий они созидают общество.
Отказываясь от обычной для Запада зацикленности на роли творческой индивидуальности, сторонники концепции «производства культуры» утверждают, что изобразительное искусство, музыку, литературу, телевизионные новости и т.п. создают социальные группы. Общим между поп-музыкой и физикой элементарных частиц является то, что это суть символические структуры, созданные людьми в рамках и посредством определенных социальных организаций. Такое, на первый взгляд, неожиданное утверждение вступает в конфликт с общепринятыми мнениями о культуре, которые разделяются не только неискушенными людьми, но и многими профессиональными теоретиками. Организационный подход отрицает наличие однозначной связи между намерениями индивида, даже если тот является очень влиятельной фигурой в культурной организации, и типом производимого ею продукта. Продукт, скорее, выступает следствием незапланированного сочетания множества частичных решений, чем преднамеренным результатом тех или иных стратегий. Подобный выбор определяется по большей части внутренними потребностями организаций, а не долговременными целями их администраторов или владельцев.
Таким образом, концепция «производства культуры», в известном смысле, является осознанной реакцией на дискуссии о роли массовой культуры. Поль Димаджо оспаривает то, что левые критики массовой культуры квалифицируют как «монопольную» ситуацию: дескать, имеется единственный производитель культуры (правящий класс), и публика вынуждена принимать все, что он ей предлагает. Правые критики, наоборот, имплицитно принимают на веру ситуацию «свободной конкуренции», когда существует множество производителей, которые выпускают практически неограниченный ассортимент культурных продуктов, так что публика может выбрать все, что ей вздумается. По мнению Димаджо, реально существующая массовая культура не вписывается в модели как левых, так и правых, потому что ключевые характеристики массовой культуры зависят не от социальных условий, а от технологии. Некоторые формы производства массовой культуры монополизированы — как, например, телевидение (до появления кабельных систем) или издание школьных учебников в Соединенных Штатах. Однако другие отрасли — книготорговля, музыкальные записи, кинофильмы, журналы — создают объекты для специфических аудиторий; в этом случае ситуация больше напоминает свободную конкуренцию. Широта выбора и новизна культурных товаров, предоставляемых потребителям, определяется в первую очередь рыночными структурами и организационными особенностями тех или иных отраслей, а не предпочтениями масс или управляющих производственными процессами34.
Данный подход отрицает прямую механистическую зависимость между культурными продуктами и играющими по отношению к ним определяющую роль социальными структурами или культурными ценностями. В этом плане социология отделяет себя от антропологии или, по крайней мере, от соблазна применять выводы, полученные при изучении примитивных обществ, для понимания сложных. Возможно, существует определенное «соответствие» между культурой и социальной организацией в тех сообществах, с которыми обычно имеют дело антропологи, но из этого не следует, что в сложных, высоко дифференцированных плюралистических обществах мы обнаружим такое же однозначное соответствие.
Социологический подход резко порывает с антропологической традицией и в другом отношении: он полностью заменяет анализ культурных значений исследованием процессов производства культуры. Например, Говард Беккер, применяя методы социологии занятости, изучает материальные, социальные и символические факторы, вовлеченные в производство значимых культурных продуктов. Его мало интересует культурный смысл конечных объектов. Он хочет понять их социальное значение. Внимание концентрируется на сложной системе отношений между «творческими работниками» и «вспомогательным персоналом», необходимым для производства культурных ценностей. Традиция западного индивидуализма и вытекающая из него эстетическая теория придают «персоналу» роль невидимых слуг, действующих за сценой непосредственного культурного производства. Те, кто обрабатывает кинопленку в лабораториях, готовит краски или печатает книги, крайне важны для производства культуры, но их имена редко упоминаются. Обратив внимание на этот факт, Беккер развивает сугубо социальное видение творческих процессов и их результатов35.
Как и Беккер, Поль Хирш в своем исследовании, посвященном моде и массовым увлечениям, не интересуется интерпретацией культуры (например, объяснением того, чтo культурные объекты «означают»36). В этой работе не делается отсылок к Веберу или «насыщенным описаниям» Гиртца и прочим интерпретивистским ухищрениям. Хирш хочет уяснить общие характеристики сферы производства, которая создает культурную продукцию. Главная проблема этой сферы — неопределенность покупательского спроса. Существенная экономическая особенность ее отраслей, воздействующая на структуру деятельности, — это сравнительно невысокая стоимость тиражирования книг, музыкальных записей, типовых кинокартин. Результатом является перепроизводство и избирательное продвижение (promotion) культурных товаров. Принимая решение о выпуске продукции на широкий рынок, производители полагаются на институты изучения общественного мнения, критиков масс-медиа и прочих «привратников», отбирающих для публики самые лучшие или наиболее привлекательные культурные объекты. Затем из всего множества последних выделяется ограниченное число, и уже ради них мобилизуются демоны рынка и рекламы (в то время как писатели и художники, создававшие другие произведения, ломают себе голову: почему их книги, записи, кинофильмы не пользуются успехом). Рейтинговая система занимает центральное место в концепции Хирша, но не как критерий различения «хорошей» и «плохой» культуры. Она позволяет понять, как в индустрии массовой культуры организуются процессы производства и распределения.
В работе Хирша проявляются как общие достоинства, так и недостатки концепции «производства культуры». Ее сильной стороной можно считать то, что она действительно объясняет некоторые особенности формирования поп-культуры. Что же касается недостатков, то в качестве таковых можно назвать три следующих.
Во-первых, как отмечают сами сторонники данной концепции, организационный подход больше подходит для объяснения механизмов «нормального» воспроизводства культуры и в меньшей степени — для понимания механизмов ее изменения. Тодд Гитлин, изучивший историю создания некоторых популярных телепередач, делает важный вывод: то, что начинается как исключительное, из ряда вон выходящее — резкое прекращение убаюкивающего бормотания, исходящего из телевизора, попытка выступить с сильным политическим заявлением — все это со временем проходит через процедуру вивисекции, имеющей своей целью освободиться от всего яркого и оригинального, — в результате чего создается совершенно другой объект культуры37. Гегемония массовых жанров работает против «нарушителей», даже если авторы склонны к критическим выступлениям.
Во-вторых, сторонники концепции «производства культуры» склонны преувеличивать значение социологических факторов, в частности, роль внешних условий, влияющих на деятельность культурных организаций. Организации эти (или точнее, ключевые лица, принимающие в них решения) обладают определенной свободой в рамках широкого круга возможностей. Более того, часто обнаруживаются альтернативные решения, которые могут приносить столь же приемлемый результат. Вероятно, еще более важно то, что организации могут способствовать созданию культурной среды, от которой впоследствии они становятся зависимыми: это прежде всего касается областей культуры, контролируемых государством. Наконец, организации отвечают на запросы не их «реального» окружения, а того, что ими воспринимается как «окружение». Даже в самых прагматических организациях ценностные аспекты культуры — в форме традиций, идеологий или предрассудков — оказывают воздействие на то, как будут сформулированы проблемы.
В-третьих, приверженцы концепции «производства культуры» обычно думают, что они изучают «культуру». На самом деле это не совсем так. Они изучают производство культурных объектов, становящихся материалом и принадлежностью культуры. Но сами по себе эти объекты не являются культурой как таковой. Если рассуждать в категориях лингвистики, то социологи изучают код, но не язык; внешний вид (perfomance), но не содержание (competence); речь, но не язык. Процессы производства и селекции, которые так хорошо описывают Хирш и Гитлин, в действительности являются не только социоэкономическими, но и культурными процессами, осуществляемыми на базе некоторых интеллектуальных, символических предпосылок. И только в этом контексте они выступают как процессы производства культуры.
Социологи, в особенности те, кто испытал влияние марксистской традиции (т. е. почти все европейские исследователи, независимо от того, признают они себя марксистами или нет), обращают внимание на отношения между культурой и классовыми различиями в обществе. Они в большей степени, чем антропологи или литературоведы, интересуются социокультурной дифференциацией. В марксистской традиции это в первую очередь означает упор на отношения между культурой и классом; в американской традиции предпочтение отдается отношениям между культурой и другими социальными формами дифференциации, в особенности этническими и сексуальными (гендерными). Такой подход может быть реализован в исследованиях менталитета и экспрессивных стилей наций, классов или субкультур различного рода. В таком случае культура рассматривается как выражение инструментальных потребностей социальных групп. С другой стороны, культура может пониматься как метонимический эквивалент других форм социальных различий и социальных взаимосвязей, как «тень» социальных отношений.
Исследования Бурдье дают пример широкого социологического видения культуры, понимаемой как выражение и фактор социально-классового деления. Он обращается прежде всего к «производству» культуры, но этот интерес не заслоняет проблем культурного потребления. Бурдье с одинаковым вниманием изучает как «предложение» культурных образцов (например, связанных со спортом), так и особенности изменения «спроса» на эти образцы, что позволяет создать карту распределения культурных объектов и склонностей среди различных слоев общества (в особенности — между классами, но Бурдье изучает также возрастные и прочие подгруппы населения38). Бурдье, например, показывает, что современное увлечение спортом могло возникнуть лишь при определенных исторических условиях и у определенных общественных классов. Хотя народные спортивные игры и развлечения существовали всегда, главные спортивные традиции развивались элитарными учреждениями, где «страсть к неутилитарным занятиям» выступала определяющим критерием отношения к искусству и к спорту. Популяризация спорта, с этой точки зрения, не прибавляет ничего нового: фактически, популяризация идет рука об руку с культурным разделением на профессионалов и прочую публику, которой отводится роль простых потребителей или «воображаемых участников», что является лишь иллюзорной компенсацией реального отчуждения от культуры39.
В этом анализе Бурдье устанавливает связь досуговых занятий с общественной стратификацией, что в традиционной социологии делалось только по отношению к труду. Он утверждает, что посредством спорта воспроизводится статус класса в целом, а не отдельного индивидуума. Такой ему видится главная роль культуры в социальной жизни, и Бурдье приводит достаточно доказательств в защиту своего тезиса. К сожалению, его теоретическая концепция не охватывает всего богатства эмпирического и исторического материала, привлекаемого им для анализа. Вследствие сосредоточения внимания на иерархическом строении культуры, модель Бурдье малопригодна для изучения процессов, с которыми столь успешно работают приверженцы концепции «производства культуры».
В исследовании Поля Димаджо, написанном, безусловно, под влиянием Бурдье, удачно совмещаются сильные стороны классового подхода европейской социологии и организационного подхода американской школы «производства культуры». Димаджо прослеживает развитие элитарной культуры в городе Бостоне в конце XIX в. Создание Бостонского симфонического оркестра и Бостонского музея изящных искусств имело своей целью не поиск подходящих организационных форм для уже существующей «высокой культуры», а «изобретение», сотворение высокой культуры путем учреждения организаций, которые могли бы мобилизовать элитные группы. Димаджо стремится доказать, что различие между высокой и массовой культурой в Соединенных Штатах возникло в конце XIX столетия, когда городские элитные группы создавали организации, обособляющие определенные виды культурной деятельности и отделяющие их от «популярной культуры».
Конечно, было бы ошибкой отрицать дифференциацию культуры на высокой и популярную как в символическом, так и в организационном аспектах. В связи с этим стоит обратить внимание на работу Уильяма Вебера, дающую представление о том, как формировался пантеон «великих» музыкантов в Европе середины XIX в. Поскольку ни греческой, ни римской античной музыки не сохранилось, европейское музыкальное искусство не могло обратиться к классической традиции, как это сделали литература, архитектура, живопись или скульптура. Одновременно с ростом массовой музыкальной аудитории в начале XIX в. — отчасти благодаря развитию печатной индустрии, сделавшей доступными нотные альбомы, — элитарные профессиональные оркестры принялись формировать то, что называется «классическим» репертуаром. В 1820-х годах большая часть произведений, исполнявшихся Лондонским филармоническим обществом, принадлежала композиторам-современникам; но уже к 60-м годам, например, в репертуаре Концертного общества в Париже произведения живших в то время композиторов составляли только 11% от общего списка. Как и Димаджо, Вебер придерживается строго социологической, включающей элемент скептицизма точки зрения. Он не вступает в спор с теми, кто захотел бы настаивать, что классический репертуар «лучше», чем популярные музыкальные формы; он просто утверждает, что создание классического репертуара само по себе есть социальный феномен, определяемый борьбой за власть и положение между различными классами и статусными группами40.
Видимо, главный вывод, который можно извлечь из новейших социологических исследований популярной культуры, это невозможность проведения жесткой границы между нею и высокой культурой. Часть явлений поп-культуры со временем становится принадлежностью культуры высокой (Чарльз Диккенс, фольклор, антикварная мебель, джаз). Часть явлений высокой культуры включается в массовую («Месса» Генделя).
Простые люди овладевают специальными художественными знаниями и навыками; элитные группы создают свой собственный «фольклор» (например, берущую начало от романтизма XIX столетия веру в гения — творца культуры). Границы между элитарной и популярной культурами устанавливаются и поддерживаются не столько во имя эстетических, сколько ради социальных и политических целей. Сегодня, в отличие от дискуссии 1950-х годов о «массовой культуре», социологи склонны воздерживаться от прямых суждений и рассматривают саму эту дискуссию (в некоторых аспектах продолжающуюся и поныне) как часть социального процесса, посредством которого оценочные суждения привязываются к тем или иным вкусовым предпочтениям социальных слоев.
Эти выводы подтверждаются и новейшими дискуссиями о проблеме «канонизации» в литературе и искусстве. Литературоведы все более осознают, что их деятельность носит не абстрактно-критический, а конкретно-социальный и политический характер: то, что называется «литературой», во многом зависит от индивидов и общественных институтов, связанных с доминирующим классом, от того, что ими признается литературой. Объявление произведения шедевром — это прежде всего социальный и политический акт, а не суждение чистого разума.
Легитимация популярной культуры как объекта исследования не должна пониматься — что иногда происходит — как некритическое принятие всего того, что в ней имеется. Изучение популярной культуры довольно часто превращается в ее восхваление. Хотя подобное восхваление повышает значение политических и эстетических форм самовыражения простых людей, демократический пафос в исследованиях поп-культуры порой приводит к неразборчивости в оценках. Можно приветствовать исследования, показывающие солидарность, дружескую взаимопомощь и стойкое сопротивление народных масс культурному давлению извне; но при этом не следует закрывать глаза на проявления бытового расизма, сексуального шовинизма и национализма, которые в них столь же глубоко укоренены. Ведь это все также является частью народной культуры.
В связи со сказанным необходимо указать еще на одну проблему, которая чаще всего игнорируется в исследованиях по массовой культуре, — на проблему соотношения «народного» и «публичного». Согласно концепции «сферы публичности», должны существовать определенные публичные места, или «пространства публичности», где люди могли бы собираться, чувствуя себя на равных, и совместно обсуждать проблемы в ходе свободной дискуссии, иначе говоря, необходимо некоторое нормативное измерение, через которое может определяться само понятие «народ». Нынешнее понимание публичности, по мнению немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса, является историческим продуктом41. Хабермас указывает на роль социальных институтов, определяющих и конституирующих пространство публичности в современных обществах, и в особенности — средств массовой информации, неофициальных объединений и учреждений, где могут вестись свободные дискуссии (как, например, кафе в городах XVIII столетия). Поскольку политическая инициатива, начиная с XVIII в., последовательно переходила от аристократических салонов, где она выражалась лишь отдельными субъектами, к партиям, рекрутируемым из масс, к газетам, издаваемым для широкого читателя, и, наконец, к уличным манифестациям, когда выходцы из разных классов и стран объединяются для выражения общей воли, — полноценное изучение истории демократии становится невозможным без научного обсуждения вопроса о роли институтов культуры самых широких народных масс.
Очевидно, что такая постановка проблемы привносит дополнительное измерение и в анализ поп-культуры. Благодаря этому становится ясно, что она заслуживает изучения не просто потому, что «популярная», но и потому, что может способствовать (или препятствовать) рациональному и критическому участию в сфере политики широких народных масс. Концепция «сферы публичности» предлагает нормативный стандарт, который следует рассматривать как существенный вклад в теорию народной культуры.
Литературная и другие формы культурной критики
Возможно, наиболее драматический характер носило переосмысление массовой культуры, осуществленное литературными критиками, многие из которых вовсе отказались от традиционного почтения к высокой культуре как к привилегированному объекту изучения. Ими была осуществлена интеллектуальная революция, приведшая к возникновению ряда теоретических школ (структурализм, семиология, постструктурализм, деконструктивизм, теория дискурса) и крайне запутанной терминологии, которая пугает посторонних наблюдателей и заставляет порой даже посвященных людей покачивать головой. Но в этом новом причудливом мире литературной теории можно найти нетривиальные методы критического анализа и новые воззрения на природу культуры, понятой в широком аспекте.
Для начала совершим небольшой экскурс в прошлое. Внимание к популярной культуре, или — в более широком смысле — культурный критицизм, имеет своим основанием недовольство со стороны «правых» и «левых» идеологов культурными привязанностями массовой аудитории. У «правых» осуждение массовой культуры обычно было связано с общим раздражением против демократических и эгалитаристских движений. Будь то любовные романы, которыми в XVIII в. зачитывались многие женщины, или массовые газеты конца XIX века, которые были особенно популярны среди рабочих, или дешевые кинотеатры, в начале нынешнего столетия пользовавшиеся в США большим успехом у иммигрантов, или комиксы 1940-х и 1960-х годов — защитники элитарной культуры во всем усматривали серьезную угрозу высокой культуре как хранительнице «истинных» стандартов образования и социализации. Новые формы массовой культуры обвинялись во множестве грехов: они-де апеллируют к чувствам, а не к разуму; показывают и тем самым поощряют преступность и сексуальную распущенность; легко усваиваются необразованными или плохо образованными людьми и не требуют от последних никаких интеллектуальных усилий.
Хотя все вышеприведенное можно отнести на счет элитаристских попыток защитить высокую культуру, однако многие из тех же аргументов повторяются и «левыми» критиками, озабоченными развитием аутентичных «освободительных» элементов культуры угнетенных социальных групп. «Левые», как и «правые», порицают массовую коммерческую культуру. Если «правые» критики видят в ней уступку низменным вкусам и желаниям, то «левые» — попытку элитарных групп приручить потенциально «неуправляемые» революционные массы. Со стороны «правых» данный вид критицизма не получил систематического выражения, но у «левых» он превратился в воинствующую теорию, прежде всего благодаря усилиям Франкфуртской школы.
Главная цель этой группы исследователей заключалась в том, чтобы объяснить причины успеха нацизма, в частности, путем анализа психологических и политических функций массовой культуры и ее роли в формировании политического сознания народа. Они рассматривали массовую культуру как выражение эстетической и политической дебилизации, понижающей способность аудитории к критическому мышлению и служащей идеологическим оружием для манипулирования политическими предрассудками, присущими толпе. Представители Франкфуртской школы предложили оригинальную версию марксистского анализа, связанного, как и у их предшественников, с желанием понять, как поддерживается власть капиталистического класса в индустриальном обществе; но теперь этот анализ был дополнен изучением роли масс-медиа. В результате обнаружилось нечто совершенно неожиданное для самих марксистов: консерватизм и (новое понятие!) «авторитаризм» в среде рабочих.
Как у «правых», так и у «левых» проявляется негативизм в их отношении к новым культурным формам и технологиям, становящимся достоянием масс. Один из самых известных критиков Франкфуртской школы Теодор Адорно осуждал поп-музыку (включая джаз) и радиовещание, распространяющее ее. Он находил, что «рыночные формы» капиталистической культуры, стандартизируя произведения и понижая их до уровня посредственности, приводят к созданию музыкального искусства, где главную роль играет «узнавание» уже знакомого, а не более активное духовное восприятие. Поп-музыка поощряет пассивность. Что же касается радио, то оно изолирует индивидов и лишает их живого коллективного соучастия в исполнении; оно продуцирует «атомизированное слушание»42.
Работа Вальтера Беньямина «Произведение искусства в век технической воспроизводимости» стала пробным камнем в новейшем критическом дискурсе. У Беньямина установились сложные отношения с представителями Франкфуртской социологической школы, общавшимся с ее ведущими представителями, но всегда несколько дистанцировавшимся от них. Беньямин испытывал сильное влияние иудаистской теологии и мистицизма, с одной стороны, и плохо переваренного и непоследовательного материализма — с другой. Будучи поклонником Бертольта Брехта, он в целом оптимистично оценивал революционный потенциал искусства и новых технологий, чего другие представители Франкфуртской школы не делали. Это особенно заметно в «Произведении искусства...», где он утверждал, что массовое производство художественных образов вынуждает авторов больше заботиться в своих произведениях о запросах аудитории, чем о самовыражении. Таким образом, массовое производство основательно и с необходимостью политизирует коммуникацию. Оно убирает «другого» (автора) от непосредственного взгляда зрителей, и оно может существовать только там, где большое количество людей вовлекается в процесс восприятия.
Наиболее привлекательными оказались работы Беньямина для критиков 6О-х годов прежде всего потому, что они были написаны в афористичном, насыщенном аллюзиями стиле, больше напоминая поэтические тексты, чем научные штудии, и тем самым предоставляли широкую свободу для различных интерпретаций. Внимание к проблемам массового производства культуры делает работы Беньямина созвучными идеям другого властителя дум 60-х годов — Маршала Маклюэна, рассматривавшего средства коммуникации как сообщение («media is the message». — А.З.)43. Однако, в отличие от Маклюэна и других критиков старшего поколения, Беньямин не считал, что масс-медиа имеют какой-либо изначально предопределенный характер (хороший или плохой, «горячий» или «холодный»). Как ценитель художественной фотографии и энтузиаст кино, он верил, что средства массовой коммуникации могут служить важным целям и давать положительный политический эффект. Благодаря этому работы Беньямина могут способствовать изживанию комплекса неполноценности у любителей рок-музыки и фанатов киноискусства; но более важно, что они стимулируют новые дебаты о том, каким образом можно создать более демократичную и свободную структуру коммуникаций и как обеспечить наиболее благоприятные условия для ее развития. Разработка этой темы была впоследствие продолжена целым рядом других мыслителей, принадлежащих к Франкфуртской школе, включая Герберта Маркузе и Юргена Хабермаса.
Интерес к новым формам коммуникации в 60-е годы был очень тесно связан с радикалистскими настроениями в научных кругах. Если масс-медиа способствуют утверждению политического консерватизма, как могут быть выражены и реализованы иные, оппозиционные точки зрения? Некоторые авторы полагали, что ответ на данный вопрос можно получить, обратившись к истории рабочего движения и попытавшись понять то, как культура и политическая оппозиция были связаны в прошлом. Особый интерес в этом отношении представляют работы британских ученых — П.Томпсона, Р.Уильямса, С.Холла, Р.Хоггарта, Д.Фиске и др44.
В Англии (а также в других англоязычных странах) выдающуюся роль в обновлении традиций критических исследований сыграл Раймонд Уильямс, историк и литературный критик. В его работах, содержащих широкий анализ проблем масс-медиа — от театра до прессы и телевидения, — показано, как сообщения, передаваемые средствами массовой коммуникации, конструируются в соответствии с политико-экономической и технологической средой, в которой они возникают45. По мнению Уильямса, данные сообщения следует рассматривать как выражения социальной позиции их «авторов» (взятой в контексте марксистского классового анализа) и вместе с тем как знаки новых социальных отношений, формирующихся под влиянием различных средств коммуникации.
Уильямс предлагает серию ключевых понятий для усовершенствования марксистской теории; они, как полагает он, позволяют избежать одиозной трактовки терминов «базис», «надстройка», «определяющий». В его лексиконе эти категории дополняются понятиями доминирующей, альтернативной и оппозиционной культур; доминирующей, отживающей и становящейся культур. Уильямс не оставляет камня на камне от общепринятой марксистской метафоры о том, что экономический «базис» определяет политическую «надстройку», право, религию и — что представляется здесь особенно важным — культуру. Он считает, как и другие ученые, что понятие культуры более содержательно и многогранно, чем его обычно представляет марксистская теория. Более того, он, по существу, отрицает тот факт, что культура может быть объяснена как надстроечное явление. Уильямс утверждает, что подобный подход создает ошибочное представление о культуре как о наборе символов или объектов, в то время как на самом деле культура есть в первую очередь совокупность норм и образцов общественной практики. Следовательно, базис и надстройка непосредственно сосуществуют в самом теле культуры. Далее делается следующий принципиальный вывод. Когда базис рассматривается как неизменная технологическая и экономическая система, то производится подмена предмета марксистских исследований: изучение конкретной деятельности людей в реальных экономических и социальных условиях, исследование процессов общественного производства подменяется анализом некого «механизма» с заранее известным устройством. Так же, как догматический марксизм искажает понятия базиса и надстройки, он неверно толкует и понятия «определять», «определяющий». По Уильямсу, «определять» означает не «предопределять, направлять (вообще)», а скорее «ставить границы».
В Великобритании проблемы массовых коммуникаций стали центральными для исследований популярной культуры именно в том смысле, о котором уже говорилось выше. В Соединенных Штатах — по мере того, как исследователи масс-медиа знакомятся с трудами теоретиков литературы (в особенности, Михаила Бахтина), с британскими культурологическими исследованиями (например, Стюарта Холла и Раймонда Уильямса), а также с некоторыми социологическими концепциями «культурной гегемонии» — наблюдается такая же тенденция.
Британские культурологи, по определению Джона Фиске, «изучают производство и обращение смыслов в индустриальных обществах». Большинство авторов опираются на марксистское допущение (хотя это допущение, вообще говоря, разделяется всеми социологами), что культура — т. е. смысловая сторона жизни людей — производна от социальной структуры. Культура важна (на этом в особенности настаивает Уильямс), поскольку она оказывает обратное воздействие на социальную структуру, поддерживая ее воспроизводство. Но сие происходит не автоматически, не как само собой разумеющееся. Идеология, представленная в массовой культуре — например, в телепередачах, которым придается большое значение в британской культурологии, — может «декодироваться» аудиторией разными способами. Пользуясь терминологией Стюарта Холла, можно сказать, что существует «предпочтительное чтение», но аудитории могут также избирать альтернативный или даже «оппозиционный» способ чтения одного и того же текста. Когда в эмпирических исследованиях анализируются конкретные способы восприятия текста живой аудиторией, то даже такая формулировка кажется упрощением; поэтому в культуроведческих работах чаще говорят о «многоголосии» или «полисемии» текстов. Видимо, прав Фиске, когда говорит, что чем более популярен тот или иной текст, тем более вероятно, что он является «открытым», позволяющим «различным субкультурам извлекать из него смыслы, совпадающие с их собственными субкультурными идентификациями». Поскольку культурология далеко ушла от воззрений на народную культуру как на простой переносчик доминирующей идеологии, становится все труднее определить, в чем конкретно проявляется это доминирование или гегемония. Фиске дает некоторые пояснения на сей счет. Диалог между текстом и аудиторией, замечает он, не является анархическим или плюралистическим, он должен быть осознан в контексте общественных отношений и той роли, которая принадлежит в них властным структурам. Например, телевизионный текст не анархичен. Вы не можете вычитывать из него любой смысл, какой захотите: «Различные субкультуры в обществе определяются только через их отношение (возможно, оппозиционное) к центрам влияния, точно так же и множественность значений популярного в данном обществе текста может быть определена только в его отношении (возможно, оппозиционном) к доминирующей идеологии, поскольку она выражается, структурируется в этом тексте».
Интерпретация культуры в социально-иерархическом контексте представляет собой трудную задачу. Джон Бергер пытается решить ее в небольшой, но о многом говорящей статье, посвященной известной фотографии Августа Сандера 1913 г. На фотографии изображены три крестьянина во фраках, направляющиеся на танцы. Автор замечает, что фрак на рабочем означает нечто иное, чем фрак на бизнесмене. Он изготовлен в расчете на последнего и символизирует классовые различия, хотя внешне, формально создает видимость равенства между людьми. В данном случае можно видеть наглядный пример того, как работает «культурная гегемония». Крестьяне выглядят неуклюжими и уродливыми в своих фраках потому, что они такие и есть. Фрак, напоминает Бергер, приобрел историческую славу как «прозодежда правящего класса»46. И все-таки рабочие и крестьяне наряжаются в эти костюмы как ни в чем не бывало, выставляя себя на посмешище в одежде, словно бы снятой «с чужого плеча». Короче говоря, это история о культурной гегемонии, которая заявляет о себе повсюду: рабочий класс принимает как «естественные» не только одежду, но и язык, искусство, ценности буржуазии. Точно так же работает культурная гегемония, когда женщины усваивают ценности и вкусовые стандарты, установленные мужчинами, «третий мир» принимает образцы поведения и ценности колониальных держав, чернокожие воспринимают нормы белых, гомосексуалисты — гетеросексуалов и т.д. Что является поразительным в каждом отдельном случае, так это не то, что чужая система ценностей силой навязывается угнетенным (хотя иногда именно так и бывает), а то, что силовым способом осуществляемое доминирование получает продолжение в виде процесса «натурализации» ценностей господствующего класса, так что их превосходство признается всеми как самоочевидность, как естественный порядок вещей.
В своей статье Бергер заставляет визуальные артефакты (как, например, данную фотографию) говорить ясно и отчетливо о политико-экономических реальностях. Он показывает, как структуры власти и социальных отношений действуют незаметным образом, скрываясь за внешностью демонстрируемых изображений и независимо от личных мотивов и одаренности их авторов. С одной стороны, эссе Бергера прекрасно иллюстрирует то, что означает понимание культуры как деятельности, а не как символа или объекта. Но с другой стороны, позиция Бергера уязвима. Для человека, научившегося, как и сам Бергер, видеть искусственность, «сделанность» визуальных образов, может показаться странным, что он не замечает этого в фотографиях Сандера. Он говорит о трех мужчинах во фраках так, как будто мы (созерцающие это изображение) благодаря данной фотографии получаем непосредственный доступ к эмпирической реальности. Он не поднимает вопроса о том, что сам социальный факт фотографирования трех мужчин во фраках мог являться частью процесса, имеющего своей целью поддержание определенных общественных иллюзий и предрассудков, для чего, собственно, сфотографированные люди и выставляются столь неуклюжими. Сандер в глазах Бергера предстает как объективный исследователь, но не как человек среди других людей — в данном конкретном случае это представитель городской мелкой буржуазии, чье воспитание, стиль жизни и социальная позиция, наверняка сыграли какую-то роль в том, что эти деревенские парни выглядят на фотографии как бы не в своей тарелке. И все же Бергер говорит здесь только о фраках, а не о фраках на фотографии. Его удивительная способность объяснять, как формируется семантика фотографии или живописного полотна, в данном случае используется не в полную силу.
В этом эссе упускается из виду еще одно любопытное обстоятельство. Бергер не фиксирует внимания на том, как формируется чувство прекрасного у зрителя и почему определенные вещи оцениваются им как красивые или некрасивые. Он не только рассматривает фотографию Сандера как непосредственную регистрацию эмпирической реальности с помощью фотокамеры, но кроме того он представляет себя (и своих читателей) в качестве нейтральных наблюдателей — вне какой бы то ни было социальной позиции или определенного социального фона. Будут ли зрителям из крестьян трое этих мужчин казаться такими уж некрасивыми? И показались ли бы они некрасивыми крестьянам, жившим в 1913 году?
Однако, даже сознавая все перечисленные проблемы, нельзя не поддаться очарованию этого замечательного образца «чтения» произведения визуальной культуры. Бергер, другие британские марксисты, а также критики Франкфуртской школы убедительно доказали существование связи между текстами и изображениями, между социальной властью, которую они в себе заключают, и эстетическими системами, ответственными за формирование суждений. Сила воздействия индивидуального образа на реальность может частично объясняться действенностью его эстетики, но и та, в свою очередь, проистекает из социальной реальности, которую эта эстетика помогает воспроизвести.
Серьезное исследование форм народной культуры с использованием методов литературной критики стало возможным во многом благодаря Ролану Барту. Барт одним из первых среди структуралистов стал использовать лингвистику Соссюра для целей культурологического анализа. Этот исследователь сделал еще один важный шаг, отличающий его от других структуралистов. Барт не ограничился применением лингвистических методов для анализа литературных текстов; он предложил использовать их и для интерпретации нелитературных объектов (кинофильмов, фотографий, одежды), а также других массовых форм культуры (например, увлечения кулинарией и боксом).
Логика такого движения мысли вполне очевидна. В самом деле, положение семиотики и структурализма о том, что мир есть система знаков, которые должны быть расшифрованы, а не совокупность объектов, которые требуется опознать, неизбежно вело к глобальной экспансии концепции текста. «Структуралист, — без особой симпатии пишет Роберт Альтер, — повсюду, на что бы он ни посмотрел, видит одни лишь тексты»47. Как и другие последователи Соссюра, Барт берет устную речь в качестве модели лингвистической формы. Поэтому, изучая письменный текст, приходится предварительно «транслировать» его из одного языкового пространства в другое. Эта операция довольно легко выполняется с письмом, потому что алфавитная система приспособлена для передачи речи, тем не менее письмо образует самостоятельное культурное пространство, отличное от пространства, создаваемого нарративом. Пространство письма менее пластично и интерактивно; отождествление его с речью было бы неточным. Но если применение техники лингвистического анализа к написанному тексту является эффективным, почему бы не использовать ту же технику для анализа других знаковых систем? Все знаковые системы могут рассматриваться как более или менее успешные попытки коммуникации, основанные на стратегии, которая используется живой речью.
Каким образом данная установка может быть реализована практически при изучении культурных форм? Во-первых, это требует усиленного внимания к тому, как устанавливаются различия между типами объектов. Они различаются так же, как сорняки отличаются от садовых цветов, как модное платье — от какого-нибудь старья или как чемпионат по боксу — от драки. Если принимается на веру, что культура представляет собой переплетение знаков, и признается допущение Соссюра о том, что смысл знака определяется в большей степени его отличием от других знаков, чем каким-то абсолютным референтом, тогда центр тяжести всего культурологического анализа переносится на классификационные схемы и главным рабочим понятием становится понятие различия.
Культурологический анализ стремится к возможно более полному описанию различий между знаковыми подсистемами, а также средств «перевода» значений из одних подсистем в другие. Социальный мир как таковой предстает в нем менее впечатляющим, чем знаки, которые используются для репрезентации человеческих поступков и наделения их смыслом. Вся эта тематика хорошо просматривается в работе Барта «Система моды» — самой смелой (хотя, возможно, и не самой удачной) его попытке применить формальные принципы семиотики для анализа отнюдь не лингвистического аспекта культуры48.
В этом произведении Барт пытается доказать, что моду было бы неправильно сводить только к конструированию и последующему производству изысканной одежды, в действительности она представляет собой результат взаимоналожения трех языковых систем. Первый язык — это язык художественного конструирования. Костюм составляется из ограниченного «словаря» тканей, линий и цветов, которые могут быть эстетически и технически совместимыми, вследствие чего ограничиваются знаковые возможности. Однако это еще не определяет сущности моды.
Мода также частично определяется системой производства образов, фотографиями модного платья, которые выборочно подчеркивают некоторые аспекты одежды, оставляя в тени другие. Используя кадрирование и эффекты освещения, фотография совершает вторичный отбор выразительных средств, еще в большей степени ограничивающий словарь допустимых значений моды. (Барт добавляет, что выкройки одежды являются частью визуальной системы знаков, играющих примерно ту же роль, что и модная фотография. Но в данном случае он становится на более зыбкую почву. Выкройки одежды не играют существенной роли в определении направления моды; они дают описание техники конструирования. В них нет того безразличия к техническим аспектам костюма, какое наблюдается в фотографиях и журнальных статьях о моде.)
Описания костюма есть (по Барту) третий, самый важный язык одежды. Они подсказывают читателям, как интерпретировать различные стили, на какие детали следует обратить внимание и какие смысловые функции эти детали выполняют в данной конкретной модели. Некоторые аспекты модного конструирования (например, расположение линии талии) могут порой играть решающую роль (женское платье в стиле ампир или флаппированные платья 1920-х гг.), однако в другие исторические периоды они не считаются столь важными. Журналы мод создают фигуру умолчания вокруг отдельных конкретных образцов костюма и в то же время дают оценочные комментарии по поводу решений, которые предлагаются популярными модельерами.
Бартовский анализ идет здесь вразрез с общепринятыми мнениями. О модельерах обычно думают как об «авторах», выражающих свое специфическое образное видение мира. Как обычно полагают, специальные техники и материалы служат лишь средствами выражения индивидуальной экспрессии. Между тем у Барта роль модельеров почти совсем игнорируется, их манипуляции с одеждой рассматриваются критиком как эмбриональная стадия развития моды. Сложная культурная система, о которой здесь ведет повествование Барт, реализуется как коллективный процесс; Барт не оставляет в ней привилегированного места для «автора». Это социальная система; еще же конкретнее — капиталистическая система, которую Барт не очень остроумно критикует. Но его методы сильно отличаются от тех, какие используют Раймонд Уильямс или Джон Бергер. Значения, функционирующие в мире моды, не могут быть (согласно Барту) продуктами самих действующих субъектов (что кажется несомненным Уильямсу и Бергеру); они представляют собой часть языковой системы, структурирующей жизненные миры людей, которые пытаются данную систему использовать. Барт постоянно подчеркивает отличие семиотического анализа от социологического.
В то время как марксисты видят в культуре выражение политико-экономических отношений и интересов, структуралисты представляют ее как совокупность языковых систем. Для структуралистов не имеет принципиального значения вопрос о происхождении культурно-лингвистических комплексов: согласны ли они с идеей о том, что человеческий разум структурирован по типу языка и, стало быть, структурность языка имеет биологическое основание, или же рассматривают язык как продукт исторической эволюции (т. е. социальных, межличностных взаимодействий) — для понимания механизма действия языковых структур все это не существенно. Рынок или разум, история или культура — безличные по форме продукты этих систем, в конечном счете, оказываются похожими.
Но если никто в отдельности не является автором, то, может быть, авторами являются все? По-видимому, центральным пунктом постструктуралистских рассуждений выступает мысль о многоголосии текстов. Тексты рассматриваются как имеющие множество потенциальных значений, причем ни одно из них не является «истинным» значением, т. е. таким, какое из текста мог бы извлечь «абсолютный» читатель. Франкфуртская школа, «новый критицизм» и структурализм были согласны в том, что целью критики является отыскание «подлинного» значения текста. Они создавали всеохватные системы, или теории, предназначенные для исчерпывающего объяснения реальности (или текстов). Приверженцы различных научных школ имели несовпадающие мнения по поводу того, каким должно быть «подлинное» чтение, при этом разница в понимании и оценках списывалась на неустранимые трудности интерпретации. Различия в результатах анализов преподносились как свидетельства слабости «других» теорий.
Постструктуралисты, в общем, больше интересуются разнообразием опыта чтения, чем совершенствованием процесса последнего. Они утверждают, что различные интерпретации возникают не только из-за разницы подходов читателей (что вполне естественно, ибо они имеют неодинаковые понятия о чтении и письме), но и потому, что тексты сами по себе многозначны и пронизаны противоречиями. В феминистском по своему стилю отрывке может использоваться язык, восходящий к патриархальной традиции и отрицающий часть содержания; в тексте коллективистской направленности могут защищаться идеалы личной свободы, характерные для западного индивидуализма. Все тексты, как учат постструктуралисты, «интертекстуальны».
При таком подходе критик утрачивает свою исключительную позицию в качестве эксперта. Критический анализ произведения — это такой же акт чтения, как и любой другой. С одной стороны, по сравнению с писателем, критик получает некоторое преимущество в плане свободы интерпретаций — и именно потому, что здесь он выступает как читатель. Но теперь критик утрачивает свои привилегии перед лицом остальной читательской публики. Поэтому, например, опыт «чтения» текстов массовой, народной культуры самими ее представителями, с точки зрения постструктуралиста, не менее интересен и показателен, чем опыт анализа профессиональными критиками произведений элитарной культуры.
Некоторые поструктуралисты ставят вопрос о психологических факторах, опосредующих процесс чтения. Мишель Фуко, Ролан Барт, Христиан Мец и другие обратили внимание на чувственный характер этого вида деятельности49. Они ставят вопрос о природе удовольствия, получаемого людьми при чтении книги или во время просмотра кинофильма. Увлечение французских критиков фрейдистскими концепциями (не без помощи Лакана) подтолкнуло их к размышлениям о человеческих подсознательных стремлениях, актуализируемых в культуре.
Власть и сексуальность вновь были восстановлены в своих правах как движущие силы, определяющие характер производства и использования ценностей культуры. Власть и сексуальность стали особенно важными категориями в феминистской теории — критическом движении, развившемся во взаимодействии с другими течениями постструктуралистской мысли. Феминизм исходит из посылки, что язык в такой же степени политичен, как и чувствен, и что он поддерживает или устанавливает системы власти при любом использовании. Классовое сознание эксплицируется в традиции «великих писателей и великих произведений», то же самое происходит и с половой стратификацией. Жанры, которым женщины отдают предпочтение, типы повествования, которые пользуются успехом у женщин, и приемы использования языка, которые кажутся женщинам наиболее удобными, не встречают в обществе поощрения, а типы литературы, избираемые и культивируемые мужчинами, преподносятся как наилучшие, превосходные.
Исследователи феминистской драмы отмечают, что современный феминистский театр может не удовлетворять зрителей, выросших на традициях классического театра, потому что в нем отсутствует «акт узнавания» как высший момент эмоционального подъема. Макбет, Лир или Эдип сталкиваются лицом к лицу со своей идентичностью в акте само-узнавания — и это большинству зрителей понятно. Однако феминистская драма ставит под вопрос тот вид «самости», который в этих пьесах подразумевается. Если в традиционной драме героика строилась на «процессе узнавания и разгадывания тайны», то в феминистской драме «эго» предстает не как нечто постоянное и правдивое, а скорее как «текучее, колеблющееся, восхитительно проблематичное и изменчивое»50.
Многие из этих проблем затрагивает в своих сочинениях Мишель Фуко. Это очень глубокий мыслитель, оказавший влияние на литературную критику, социологию (в особенности на исследования девиантного поведения и форм социального контроля), на теорию познания и историю культуры... Подобно многим структуралистам, он понимает авторство как культурное изобретение, возникшее в системе западного индивидуализма, изобретение, которое маскирует факты широкого заимствования писателями идей и языка из общей популярной культуры51. Однако в отличие от структуралистов Фуко не думает, что авторство надо вовсе игнорировать. Напротив, он полагает, что концепт авторства должен быть понят как эффективный инструмент борьбы за власть, используемый в литературной критике с целью получения доступа к печатному станку и к влиянию. Фуко пишет, что традиционное понимание авторства сохранялось так долго в значительной мере потому, что без него критики культуры не смогли бы привешивать ярлыки «великих произведений» к сочинениям «великих авторов». Это могло бы представлять опасность, так как перевернуло бы всю систему власти языка, включая санкционированное отношение элиты к массовой культуре. Народная культура чаще всего анонимна. В виде немногих исключений ее «возвышают», награждая некоторых ее официально признанных авторов (режиссеров), как это делается, например, в кино.
Все вышесказанное не лишено смысла, однако возникает множество новых вопросов об условиях, конституирующих понятие авторства. Что может произойти, если мы будем думать так, как предлагает Фуко, в частности, если мы станем приписывать авторство текстов простым людям, чьи голоса писатели вводят в свои фантастические или этнографические произведения? Могли бы мы сказать, что такую-то книгу написали Бруклин или Арбат? И если бы мы хотели перераспределить власть в обществе, то как можно перераспределить авторство? Фукианская концепция оказывается подобной магической шкатулке, наполненной загадками.
Итак, Фуко ставит вопрос о том, что означает быть автором. Другая, не менее интересная, проблема — что означает быть читателем? Эту проблему в духе феминистской интерпретации позиции читателей рассматривает в своих работах Жанис Радуэй. Теория «позиции читателя», или «читательского ответа», сложилась до того, как в Америке стало известно о постструктурализме и о концепции многоголосия текста. Тем не менее Радуэй вполне осознает наличие множественности смыслов, заключенных в литературном произведении, и властных имульсов, пронизывающих стихию языка52.
Радуэй излагает результаты этнографического обследования группы читательниц, увлекающихся любовными романами. Она заинтересовалась этим жанром, несмотря на то, что он осуждается критиками как литературный хлам, а критиками-феминистками — еще и как хлам политически вредный. Обе эти оценки романов явно имеют внеэстетический характер и касаются проблем гендерной политики, но как они соотносятся с читательским опытом поклонниц романов? Радуэй объясняет притягательность этого вида литературы психологическим удовлетворением, которое она приносит читательницам, с одной стороны, уводя их от семейной рутины и давая возможность заняться чем-то для себя, с другой же стороны, создавая фантастический мир, в котором утверждается ценность их жизненного выбора: ролей жены и матери, а не карьеры деловой женщины. В популярных романах сильные и красивые женщины вновь и вновь совершают подобный же выбор, вынуждая мужественного героя высоко ценить любовь и нежность. Героини романов отказываются от своей независимости и, с этой точки зрения, терпят поражение, но в целом женская культура в их лице торжествует победу, приручая и цивилизуя неуправляемых существ мужского пола. Книги такого типа на время как бы превращают мир домашних хозяек в мир социально доминирующий, и это (на чем настаивает Радуэй) является частью удовольствия, которое они приносят читательницам. Радуэй делает вывод, что данные тексты являются многоголосыми и потому допускают противоречивые политические интерпретации. Как же это оказывается возможным при том, что сами тексты крайне стереотипны и схематичны?
Радуэй не отрицает, что любовные романы принадлежат к разряду явлений коммерческой унифицированной культуры. Но их чтение, как она пытается доказать, не стереотипно. Оно в одно и то же время формально и индивидуально. Психологическая ситуация чтения, для которой предназначены эти книги (женщины находятся у себя дома, посвящая бoльшую часть времени заботе и хлопотам о своих ближних), в достаточной степени стандартна, вследствие чего социальная «формула» сюжета легко узнается большинством читательниц. Тем не менее, непосредственный процесс чтения происходит индивидуально и перенастраивается в соответствии с их собственными запросами и мечтами. В этом смысле можно сказать, что чтение любовных романов — это акт индивидуальный и вместе с тем образующий «интерпретирующее сообщество» (interpretive community). В таком сообществе анализ и понимание литературы определяется коллективным социальным и эмоциональным опытом. Даже если любовные романы представляют собой род «бегства» от жизни, они образуют реальный просвет в угнетающей монотонности быта; даже если они дают выход «фантазии», а не протесту, в этом все же есть нечто очень важное, о чем следовало бы подумать всерьез.
Как видно, мораль, которую можно извлечь из любовных романов, мало трогает Радуэй. Но что можно сказать об оценке процесса чтения самой читательской аудиторией? Согласилась бы она с подобной феминистской интерпретацией? Радуэй не дает прямого ответа на этот вопрос, но в своей работе она приводит ряд критических замечаний к обобщенному социальному портрету поклонниц романов: они увлечены чтением, подобно наркоманкам (исследовательница сравнивает их пристрастие к чтению с зависимостью от алкоголя или от наркотиков); они стремятся к разнообразию, но не прочтут и десятка страниц, если обнаружат в книге отклонение от основной линии сюжета; они до такой степени отождествляют себя с героиней, что не станут читать роман, где с последней может произойти несчастье, и не одобряют романы с печальным концом; они очень доверчивы и понимают прочитанное буквально, не принимая во внимание возможного иронического отношения автора, или тонкой психологической игры, или саморазоблачения персонажей. В общем, их чтение носит терапевтический характер, они перечитывают старые романы, находясь в состоянии подавленности или переживая стресс (видимо, не случайно психоаналитики утверждают, что любое повествование оказывает терапевтическое действие).
Таким образом, Радуэй пытается показать превосходящую культурную значимость процесса чтения по отношению к авторскому, литературному труду. Она не может принять высокомерия официальной критики и более склонна осуждать содержание книг, которыми увлекаются читательницы, чем самих читательниц. В ее исследовании дается многосторонний критический анализ общества, поставившего многих женщин в положение любительниц романтического чтива. Вместе с тем проведенный ею анализ оставляет место как для критического, так и для положительного взгляда на массовую культуру.
По существу, анализ Радуэй свидетельствует о том, что глобальная экспансия «текста» является в такой же мере его глобальным поражением, или исчезновением. Чем большим становится количество объектов, рассматриваемых в качестве текстов, т. е. вовлекаемых в процессы интерпретации, тем в большей степени интерпретация отрицает их объектность. Происходит декомпозиция текста читателями, или -- в более общем смысле — интерпретирующими сообществами, которые своими нормами и ценностями поддерживают определенные виды текстов, делают возможными их появление и интерпретацию. Хотя такой вывод выглядит несколько эксцентричным, он не снижает актуальности проблемы интерпретации, а лишь придает ей новое, дополнительное значение. Похоже, что теперь интерпретация становится главным видом деятельности, обеспечивающим функционирование текстов. Литературная критика, пишет Стенли Фиш, «становится абсолютно необходимой не только для распространения, но и для создания объектов, к которым она хочет привлечь внимание». Именно интерпретирующие сообщества, а не текст и даже не отдельный читатель, по мнению Фиша, «производят смыслы», и совершается это еще до непосредственного акта чтения53.
1 Mukerji Ch., Schudson M. Introduction. Rethinking Popular Culture // Rethinking popular culture. Contemporary perspectives in cultural studies. Oxford, 1991. Р. 1–61. [Вернуться]
2 Майкл Шадсон — доктор философии, профессор факультетов социологии и теории коммуникаций Калифорнийского университета (Сан-Диего, США). Один из ведущих американских специалистов в области политических наук, культурологии, теории массовых коммуникаций. Автор многих научных работ, из которых наиболее известны: «The Power of News» (1995), «Watergate in American Memory: How We Remember, Forget, and Reconstruct the Past» (1992), «Was There Ever a Public Sphere? Reflections on the American Case» (1992), «Advertising, the Uneasy Persuasion» (1984), «Discovering the News: A Social History of American Newspapers» (1978). Входит в списки самых читаемых и цитируемых авторов. Его работы неоднократно отмечались почетными званиями и наградами, в том числе престижной премией «Genius» Фонда МакАртуров (1990).
Чандра Мукерджи — доктор философии, профессор факультета социологии Калифорнийского университета (Сан-Диего, США). Специализируется в области истории культуры, по проблемам взаимоотношений масс-медиа с наукой и политикой. Автор монографических работ: «Territorial Ambitions and the Gardens of Versailles» (1997), «A Fragile Power: Scientists and the State» (1990), «From Graven Images: Patterns of Modern Materialism» (1983). В книге Ч. Мукерджи «Территориальные амбиции» замечательно показано, как парковое строительство, празднества и другие формы массового искусства воздействуют на характер народных представлений о власти. [Вернуться]
3 Более подробно проблема терминов рассматривается в статье Е. Н. Шапинской «Массовая культура ХХ века: очерк теорий», опубликованной в этом же номере журнала. [Вернуться]
4 Graff G. Conflicts Over Curriculum Are Here to Stay: They Should be Made Educationally Productive // Chronicle of Higher Education, 1988, February 17. Р. 48. [Вернуться]
5 Цит. по: Williams R. Keywords. N.Y., 1976. Р. 79. [Вернуться]
6 См.: Braudel F. On Histoy. Chicago, 1980. [Вернуться]
7 См.: Febvre L. and M., Henri-Jean. The Coming of the Book. London, 1958, 1976. [Вернуться]
8 См.: Davis N. Society and Culture in Early Modern France. Stanford, 1975; Eisenstein E. The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge, 1979 и др. [Вернуться]
9 См.: Ginzburg C. The Cheese and the Worms. N.Y., 1980. [Вернуться]
10 См.: Ladurie E. Le Roy. Carnival in Romans. N.Y., 1980. [Вернуться]
11 Названная работа помещена в данной антологии (А.З.). [Вернуться]
12 См.: Thompson E.P. The Making of the English Working Class. N.Y., 1963. [Вернуться]
13 См.: Jones G. S. Languages of Class: Studies in English Working Class History. Cambridge, 1983. [Вернуться]
14 См.: Peiss K. Cheap Amusements: Working Women and Leisure in New York City, 1880 to 1920. Philadelphia, 1985; Rosenzweig R. Cambridge, 1983. [Вернуться]
15 См. вышеназванную работу К. Пейс, а также: Hayden D. The Grand Domestic Revolution. Cambridge, Mass., 1981. [Вернуться]
16 Работа Р.Уильямс «Волшебный мир массового потребления» включена авторами настоящей статьи в антологию. См. также: Barth G. City People: The Rise of Modern City Culture in Nineteenth-Century America. N.Y., 1980; Trachtenberg A. The Incorporation America. N.Y., 1982. (А.З.). [Вернуться]
17 См. статьи Л. Левайн и П. Димаггио в антологии (А.З.). [Вернуться]
18 См. статью К. Леви-Стросса в антологии (А.З.). [Вернуться]
19 Цит. по: Levi-Strauss C. Totemism. Boston, 1963. [Вернуться]
20 См. статью М.Дуглас «Шутки» в антологии (А.З.). [Вернуться]
21 См.: Wright W. Sixguns and Society: A Structural Study of the Western. Berkeley, 1975; Williamson J. Decoding Advertisements. London, 1978; Lawrence E.A. Rodeo: An Anthropological Looks at the Wild and the Tame. Knoxville, 1982; Bouissac P. Circus and Culture: A Semiotic Approach. Bloomington, 1976. [Вернуться]
22 См. статью К.Гиртца о петушиных боях в данной антологии (А.З.). [Вернуться]
23 Цит. по: Geertz C. Art as a Cultural System. MLN 91 (1976). Р. 1478. [Вернуться]
24 «Thick description» в переводе на русский язык может означать: плотный, наполненный, густой, двусмысленный, неприличный (А.З.). [Вернуться]
25 См.: Turner V. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago, 1969; Katz E. Media Events: The Sense of the Occasion // Studies in Visual Communication, 1984, № 6. Р. 84–89. [Вернуться]
26 Цит. по: Babcock B. Arrange Me in Disorder: Fragments and Reflections on Ritual Clowning // Rite, Drama, Festival, Spectacle: Rehearsals Toward a Theory of Cultural Perfomance. Philadelphia, 1984. Р. 107. [Вернуться]
27 В антологии помещен фрагмент этой большой работы под названием «Буржуазная мысль: западное общество и культура» (А. З.). [Вернуться]
28 См.: Park R.. The Immigrant Press and Its Control. Westport, Conn., 1970; Dewey J. The Public and Its Problems. N. Y., 1927; Veblen Th.. The Theory of Leisure Class. N. Y., 1953. Р. 26. [Вернуться]
29 См.: Thomas W.I. and Znaniecki F. The Polish Peasants in Europe and America. Boston, 1918. [Вернуться]
30 См.: Lynd R. and H.. Middletown. N. Y., 1929. [Вернуться]
31 См.: Mass Culture. Glencoe, Il.: Free Press, 1957. [Вернуться]
32 См.: Herbert J. G. Popular Culture and High Culture. N. Y., 1974. [Вернуться]
33 См.: Riesman D. (with Glazer, Nathan and Denney Reuel). The Lonely Croud. New Haven, Conn, 1950. [Вернуться]
34 См.: DiMaggio P. Market Structure, the Creative Process, and Popular Culture: Toward an Organizational Reinterpretation of Mass-Culture Theory // Journal of Popular Culture. 1977. № 3. Р. 436–452. [Вернуться]
35 См.: Becker H. Art Worlds. Berkeley, 1982. [Вернуться]
36 См. статью П. Хирша в антологии «Новый взгляд на поп-культуру. Современные культурологические подходы» (А. З.). [Вернуться]
37 См. статью Т. Гитлина в той же антологии (А. З.) [Вернуться]
38 В той же антологии помещена статья П. Бурдье «Спорт и классы общества» (А. З.) [Вернуться]
39 См.: Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, Mass., 1984. [Вернуться]
40 См.: Weber W. Mass Culture and the Reshaping of European Musical Taste. 1770–1870. // International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 1977. № 8. Р. 18–19. [Вернуться]
41 См. помещенную в указанной антологии работу Ю. Хабермаса «Сфера публичности», которая была написана в 1962 году, но переведена на английский язык только в 1989 (А. З.). [Вернуться]
42 См.: Jay M. The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923–1950. Boston, 1973. [Вернуться]
43 См.: McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. N. Y., 1965. [Вернуться]
44 См.: Thompson E. P. The Making of the English Working Class. N. Y., 1963; Hoggart R. The Uses of Literacy. London, 1957; Hall S. The Rediscovery of «Ideology»: The Return of the Repressed in Media Studies // Culture, Society and Media. London, 1982; Fiske J. Encoding and Decoding // Hall, Stuart et al. Culture, Media, Language. London, 1980. Названные авторы в западной литературе иногда именуются представителями Бирмингемской социологической школы (А. З.). [Вернуться]
45 В указанной антологии помещена статья Р. Уильямса «Базис и надстройка в марксистской теории культуры» (А. З.). [Вернуться]
46 См.: статью Д. Бергера «Фрак и фотография», помещенную в указанной антологии (А. З.). [Вернуться]
47 Alter R. Mimesis and the Motive for Fiction // TriQuarterly. 1978. № 42. Р. 233. [Вернуться]
48 В указанную антологию включен фрагмент из этой книги (А. З.). [Вернуться]
49 См.: Barthes R.. The Pleasure of the Text; Foucault, Michel. What Is an Author? // Partisan Review, 1975. № 4. Р. 603–614; Metz Chr. The Imaginary Signifiers. Bloomington, 1982. [Вернуться]
50 Keyssar H. Feminist Theatre. N. Y., 1985. Р. xiv. [Вернуться]
51 В указанную антологию включен фрагмен работы М. Фуко под названием: «Что такое автор?» (А. З.). [Вернуться]
52 См.: Radway J. Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. Chapel Hill, 1984. В указанной антологии помещен фрагмент из данной работы (А. З.). [Вернуться]
53 Fish S. Is There a Text in This Class? Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1980. Р. 368, 14. [Вернуться]
1991 © Mukerji Ch., Schudson M. Introduction. Rethinking Popular Culture // Rethinking popular culture. Contemporary perspectives in cultural studies. Oxford. Р. 1–61
Перевод с английского: 2000 © Александр Захаров
Фото в заголовке: "Кризис среднего возраста", 2006 © Андрей Чернышёв
Статья перепечатывается с сайта "Sociologist's Warehouse"
Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Почитать оригинал статьи >>>
|
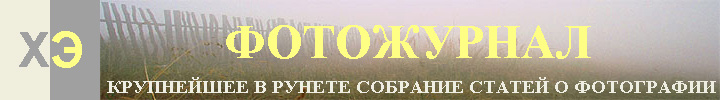

 Предлагаемый вниманию читателей текст является введением к антологии «Новый взгляд на поп-культуру» («Rethinking Popular Culture»)
Предлагаемый вниманию читателей текст является введением к антологии «Новый взгляд на поп-культуру» («Rethinking Popular Culture»)